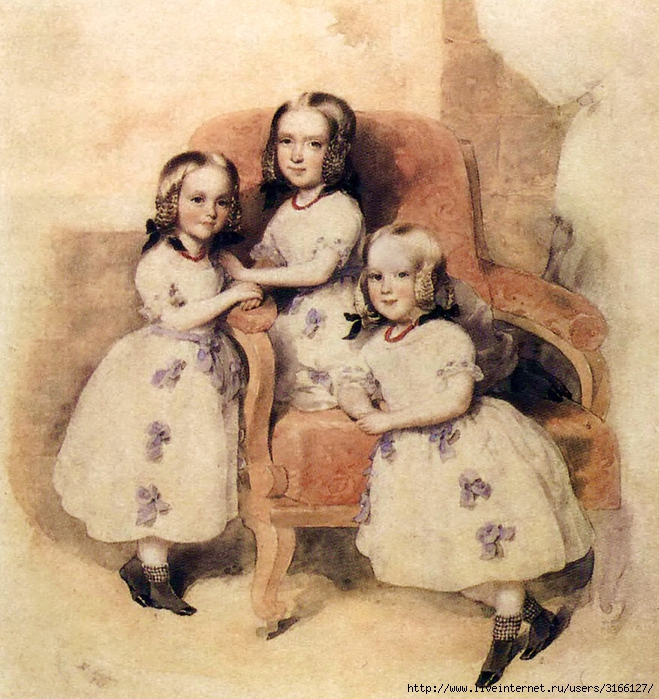В поисках “бедной Кати”: эльзасские впечатления
Седова Г. М.
Пустынные улицы Страсбурга пребывали в утренней дреме, когда за нами почти неслышно закрылись ворота российского консульства, на время ставшего для нас гостеприимным домом. Отсюда каждое утро мы отправлялись в Национальную университетскую библиотеку Страсбурга, где участвовали в подготовке пушкинской выставки. К счастью, в напряженной работе над выставкой возникла крохотная передышка; и вот мы держим путь к вокзалу, любуясь живописными каналами, переброшенными через них мостиками, поглядывая за кованые ограды еще спящих домов. Ухоженные палисадники укрывают от любопытных глаз подъезды респектабельных страсбургских жителей — по большей части врачей и нотариусов, что следует из надписей на сияющих медных табличках у дверей.
Всюду атмосфера стабильности и благополучия. Однако на душе не совсем спокойно. Мы намеревались нанести визит людям, которых давно нет на свете, но пока они были живы, наше присутствие вряд ли могло их обрадовать. Конечная цель нашего путешествия — крохотный французский городок с тревожным для русского сердца названием Сульц (Soultz).
В начале 1830-х годов один из отпрысков беднеющего баронского рода — Жорж Шарль д’Антес — отправился из Сульца в далекую Россию. Однако “ловля счастья и чинов” в чужой земле обернулась для молодого самовлюбленного повесы зловещей славой — убийством Пушкина. Впрочем, кровавый след тянется за ним исключительно в пределах России. На европейской границе, которую он пересек, возвращаясь на родину после дуэли с поэтом, этот след обрывается, уступая место другому — безмятежному и вполне мирному пути добропорядочного французского семьянина. Следует заметить, что “домашним кругом” барон ограничивал свою жизнь совсем недолго. После смерти жены, начиная со второй половины 1840-х годов, главным делом его жизни стала политика. Ему шел тридцать второй год, когда он занял кресло мэра в родном Сульце, в сорок лет стал сенатором, затем председателем Генерального совета земли Верхний Рейн, депутатом Национального собрания Франции по округу Верхний Рейн–Кольмар.
Ходили слухи, что, встречаясь с русскими подданными, бывающими в Европе, д’Антес самодовольно представлялся: “Барон Геккерн (д’Антес), который убил вашего поэта Пушкина”. Не случайно некоторые туристы из России стремятся в Сульц едва ли не для того, чтобы плюнуть на его могилу. Об этом нам с нескрываемым возмущением рассказывали сотрудники местного музея. Да и книга отзывов музея полна проклятий в адрес обоих Геккернов — приемного отца и его так называемого сына (сведущие современники считали их просто любовниками), которого некоторые посетители музея именуют главным киллером русской поэзии. И все же наши мысли были обращены не собственно к д’Антесу или к его “другу” барону Геккерну. Желание побывать в тех местах, все еще недоступных для большинства русских, схоже с намерением войти в реку времени. Всегда есть соблазн попытаться расслышать за нескончаемым гулом этой реки давно смолкнувшие голоса, постараться понять мотивы свершенных когда-то поступков, не забывая ни о чем, но вместе с тем не осуждая и не оправдывая…
Итак, мы собрались отправиться в те края, где д’Антес долгое время жил и куда привез из России весьма сомнительные элементы своего переменчивого счастья: стареющего голландского барона Луи Якоба Теодора ван Геккерна де Беверваарда, отставленного от должности посланника после катастрофы на Черной речке, и только что приобретенную супругу — баронессу Катрин, урожденную Екатерину Гончарову.
Баронесса ежегодно одаривала мужа цветущими здоровьем детьми, но всякий раз это были девочки. В марте 1842 года долгожданный наследник явился было на свет, но оказался мертворожденным. Тогда Екатерина решила переупрямить судьбу: как говорят, дала обет Мадонне, обещая перейти в католичество, если та поможет с рождением сына. Вымаливая эту милость у Мадонны, она в канун последних родов ежедневно босиком ходила в соседнюю церковь. В результате д’Антес обрел наследника (мальчик родился 23 сентября 1843 года), а молодая баронесса оставила этот мир, не оправившись после родовой горячки. Что правда в этой истории, а что вымысел?
Вот один из вопросов, ответы на которые мы надеялись отыскать в нашей поездке. Это путешествие было движением вперед лишь в пространстве, а во времени — скорее вспять, туда, где за каждым уличным поворотом, за глухими стенами старинных особняков все еще живет прошлое, утаивая свои секреты. Неотвязные мысли — свои и чужие, похожие на кажущиеся воспоминания, — путались в голове, мешали определиться с оценками. “Ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтоб ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица”, — так Пушкин подшучивал над женой, когда она еще только собиралась перевезти сестер в Петербург, желая помочь им в поисках женихов. Прошло два года с тех пор, как они перебрались в столицу, и вот уже светские сплетники не могли взять в толк, каким это образом Екатерине Гончаровой удалось заполучить завидного жениха. Графиня Бобринская в письме к мужу торопилась пересказать слухи по этому поводу: “Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн, Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву...”
Пришли на память и сентиментальные выражения самой Екатерины, обращенные к д’Антесу в то время, когда она хотела поддержать его, арестованного за участие в поединке с Пушкиным: “Единственную вещь, которую я хочу, чтоб ты знал, в чем ты уже вполне уверен, это — то, что тебя крепко, крепко люблю и что в одном тебе все мое счастье, только в тебе, в тебе одном, мой маленький S-t Jean Baptiste. Целую тебя от всего сердца так же крепко, как люблю”. Когда было написано это письмо, Пушкина уже не было на свете, но его свояченицу это словно не беспокоило. Во всяком случае, об участи поэта в письме не сказано ни слова.
Представляя своего Жоржа в образе юного Иоанна Крестителя, баронесса Катрин видела его исключительно жертвой и не задумывалась над тем, что главной темой проповедей Иоанна был призыв к покаянию. У этой молодой женщины была другая — своя — точка отсчета и своя игра. Не по собственной воле она оказалась вовлечена в водоворот трагических событий, которые привели Пушкина к гибели. Однако в той мутной водице сумела выловить свою рыбку удачи. Будучи фактически бесприданницей и старой девой (на момент вступления в брак ей было 27 лет — немалый возраст по меркам того времени), она не могла надеяться выйти за молодого красавца. Но его ноябрьский конфликт с Пушкиным перевернул все с ног на голову.
Именно тогда, опасаясь огласки скандала, который возник после появления анонимных писем и вызова Пушкина, Геккерны воспользовались слабостью Катрин — ее увлечением Жоржем и пламенным желанием выйти замуж. Они стали говорить о якобы взаимных чувствах Екатерины и д’Антеса и будто бы давно существующих планах их совместной жизни. Внезапная перспектива брака настолько вскружила девушке голову, что она утратила чувство реальности и отказывалась даже думать о том, с какой страстью совсем недавно д’Антес преследовал ее младшую сестру. Однако Пушкин, который без труда разгадал примитивный план противников, наотрез отказывался принять предложение кавалергарда взамен поединка. Вот когда в душе и сердце будущей баронессы должны были созреть два тяжелых снедающих чувства — отчаяние и неприязнь. Отчаяние от собственного бессилия переломить ситуацию и неприязнь к тому, кто вставал на пути ее призрачного счастья.
“Мое счастье безвозвратно утеряно, — писала она брату в те дни, — я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у Бога — это положить конец жизни столь малополезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего”.
Некоторые исследователи считают, что д’Антес соблазнил Екатерину Гончарову, и еще до вступления в брак она ждала ребенка. Надуманность этой гипотезы совершенно очевидна. Беременность никак не могла стать теми “материальными доказательствами”, которые Геккерны представили Жуковскому, когда хотели убедить Пушкина взять свой вызов обратно, чтобы позволить кавалергарду беспрепятственно жениться на его свояченице. Во-первых, Жуковский писал о “доказательствах” во множественном числе, а не о единственном “доказательстве”. Во-вторых, нет никаких оснований, кроме желания лишний раз кольнуть д’Антеса и его будущую супругу, считать, что дата в свидетельстве о рождении их старшей дочери подделана. С какой целью, если в том крошечном провинциальном городке, где они жили, все знали едва ли не наперед, когда именно девочка появилась на свет? В-третьих, невозможно объяснить, как в таком случае Екатерина и ее муж смогли обмануть свою приятельницу Идалию Полетику, которая отлично понимала, на каком сроке беременности баронесса уезжала из Петербурга. Перед отъездом Екатерине стало плохо, и Идалия присутствовала при ее раздевании и осмотре доктором. Она не стала бы в начале октября поздравлять д’Антесов с предстоящим рождением ребенка, если бы догадывалась, что он уже родился.
Наконец, “любимое” исследователями “доказательство” — это народная присказка, приведенная в письме тетки Екатерины Загряжской после того, как в ноябре 1836 года барон Геккерн и его “приемный сын” официально объявили о намерении последнего жениться на ее старшей племяннице: “Итак, все концы в воду…” Принято трактовать эти слова как желание скрыть какую-то тайну, но в действительности в пушкинское время подобную фразу произносили и в другом случае, когда нужно было обозначить факт решительного завершения запутанного, сложного дела. “Материальными доказательствами” могли быть какие-то документы. Например, личные письма Екатерины, адресованные д’Антесу. Узнав о том, что они стали известны посторонним людям, а замуж за кавалергарда она не идет, Екатерина могла думать, что она обесчещена, поскольку замуж не идет, и, следовательно, ее “счастье безвозвратно утеряно”.
Осенью 1843 года, когда баронесса Катрин оказалась близка к тому, чтобы оставить “многострадальную землю”, вспомнила ли она о том давнем минутном порыве отчаяния, когда так неосторожно молила небеса о своем скором уходе? Но осенью 1836 года небеса даровали ей шанс: по настоянию друзей и близких Пушкин согласился принять предложение д’Антеса, полагая, что брак с нелюбимой женщиной станет своеобразной карой для наглого кавалергарда, расплатой за его вызывающее поведение в последние месяцы.
Тогда, узнав об официальном предложении д’Антеса, Екатерина Гончарова ликовала: безумная мечта о браке с кавалергардом была близка к воплощению. Она даже решилась отправиться на великосветский бал в белом платье, хотя двор был одет в черное по случаю кончины бывшего французского короля Карла X. Посреди траура белизна ее одежды была лучшим способом обратить на себя внимание, а ей важно было доказать всему свету и, в особенности, младшей сестре, которой она втайне завидовала, что и она — старшая Гончарова — способна разжечь чувства в молодом человеке. Тогда-то светские кумушки, наблюдая за лихорадочно приподнятым настроением “сестры мадам Пушкиной”, и стали наперебой обсуждать историю “о внезапной любви д’Антеса к своей невесте”. Тем временем сама Гончарова теребила брата Дмитрия просьбами о деньгах на приданое, на покупку шубки из голубого песца и прочих предсвадебных “мелочей”.
Суета вокруг предстоящего торжества начинала раздражать Пушкина, ежеминутно напоминая о его недавней истории с женихом свояченицы. “У нас свадьба, — сообщал поэт отцу накануне рокового 1837 года. — Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля Голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной. Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но приводит меня в бешенство. Ибо мой дом имеет вид модной и бельевой мастерской”.
Появление в России “племянника и приемного сына посланника короля Голландского” было сопряжено с некоторыми европейскими политическими событиями, которые придали будущему кавалергарду особый вес в глазах общества. Незадолго до июльской революции, в 1829 году, Жорж Шарль д’Антес был принят в королевскую школу Сен-Сир. Но революция прервала учение, и, не имея достойного образования, молодой барон был вынужден искать покровителей в чужих краях. Немецкая родня по линии матери — графини Марии Анны Луизы Гацфельдт — ввела его в дом великого герцога баденского Леопольда. Как рассказывал знакомый д’Антеса, историк и политический деятель Альфред Пьер Фаллу, великий герцог “по-соседски” близко сошелся с Жоржем и познакомил его с герцогом Лукки Карлом Людвигом. Последний взялся покровительствовать д’Антесу и предложил ему “по знакомству” службу при прусском дворе. Однако юному честолюбцу казалось унизительным тянуть лямку прусского унтер-офицера, и, заручившись письмом герцога Лукки и рекомендациями принца Вильгельма (старшего брата нашей императрицы и будущего короля и императора Пруссии), он отправился в далекую Россию. Там при дворе российского императора отыскались новые друзья — немецкие и русские. Они приняли на веру рассказы д’Антеса о его участии в заговоре герцогини Беррийской, которая в 1832 году пыталась посадить своего сына на французский престол. Позднее выяснилось, что д’Антес не имел никакого отношения к вандейскому мятежу, но в Петербурге еще долго продолжали верить в эту сказку.
В России созрела “дружба” д’Антеса с посланником голландского короля Геккерном. Последний принял молодого барона под свою опеку, руководя каждым его шагом. Где и при каких обстоятельствах сошлись эти две темные личности, сказать трудно. Семейная легенда об их случайной встрече в приграничной гостинице ма-
лоправдоподобна. Посланник якобы взялся ухаживать за незнакомым молодым человеком, который простудился в пути и, всеми забытый, фактически погибал в незнакомом месте. Но барон Геккерн не был столь простодушен, чтобы бескорыстно участвовать в судьбе незнакомого юноши, не имеющего ни состояния, ни связей. Другое дело, если к моменту встречи они были знакомы и заранее условились о совместной поездке в Россию. Как знать?..
Вскоре по прибытии в Петербург посланник “воспылал” к своему новоявленному “воспитаннику” такими пламенными чувствами, что вздумал усыновить его при наличии живого и абсолютно здорового отца. В 1835 году Геккерн затеял у себя на родине судебный процесс по усыновлению д’Антеса и уже в начале лета 1836 года доставил из Гааги королевский декрет, позволяющий молодому человеку носить новое имя. Правда, факт усыновления был признан (в соответствии с законами голландского королевства) только в 1841 году, когда усыновителю исполнилось пятьдесят лет. Между тем, не дожидаясь получения официального акта, оба авантюриста еще в 1836 году заявили, что усыновление состоялось. Так перед лицом своих русских знакомых и однополчан д’Антес превратился в Геккерна, и офицеры кавалергардского полка, в котором он служил с 1835 года, каламбурили, обыгрывая фамилии д’Антес и Геккерн: был, мол, “дантистом”, а стал “лекарем” (на русский лад фамилия посланника произносилась как Эккерен). Когда 10 февраля 1837 года Екатерина Гончарова стала супругой д’Антеса, в официальных бумагах ее также стали именовать баронессой д’Антес де Геккерн. Под этим именем она покоится на кладбище в Сульце, в чем мы вскоре убедились, отыскав там ее могильную плиту.
Меня в этой поездке интересовала как раз супруга д’Антеса и ее новое бытие вне родины, хотя не стану лукавить: ожидала и какой-то встречи с ним самим.
В литературу о Пушкине баронесса Катрин — старшая из трех сестер Гончаровых — вошла как особа малопримечательная. Воспитанная в мире деревенской “глупой прозы”, она не выделялась ни знатностью происхождения, ни образованностью, ни особой индивидуальностью и в этом смысле мало отличалась от большинства девушек из провинциального русского общества. Ее семья, обремененная большими долгами деда (в прошлом миллионера!), не могла обеспечить дочерей значительным приданым. Следовательно, им трудно было рассчитывать на блестящую партию. Но сердцу не прикажешь, и в нем всегда жила надежда на возможность счастья. К тому же Екатерина была довольно практична и, кажется, миловидна (насколько может быть миловидна сухая и рослая девица, которую за спиной называли ручкой от метлы). В свете о ней отзывались как о “некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы жены Пушкина”.
Действительно, только младшей из сестер — Наталье Гончаровой — досталась особенная, почти божественная красота, способная не просто покорять, но пронзать сердца. Натали всегда была в центре внимания кавалеров, ибо, как едко заметила приятельница Пушкиных и Гончаровых Софи Карамзина, “кто же станет смотреть на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля?” Именно ей — Наталье Гончаровой — достался пусть не самый выгодный с точки зрения маменьки, но все же знаменитый муж — Александр Пушкин!
Стихи будущего зятя сестры переписывали в свои альбомы еще тогда, когда жили в калужской деревне — Полотняном Заводе. Один такой девичий альбом Екатерина увезла с собой в Сульц и сохранила среди памятных вещей. Как знать, не этот ли альбом сыграл роковую роль в семейной истории д’Антесов, когда в 1850-х годах их младшая дочь внезапно пожелала выучить русский язык? В ней будто проснулась спящая совесть ее отца и матери, она стала читать и даже учить на память произведения своего покойного дяди и пришла к чудовищному заключению: ее отец — убийца!
Баронесса Катрин знала о той трагической истории гораздо больше своей дочери, но, опасаясь потерять нечаянно обретенное счастье, не желала ни судить, ни тем более осуждать своего мужа. Она наблюдала за происходящим из лагеря врагов Пушкина и потому после поединка думала не о ране поэта, не о его возможной гибели, а о ничтожном ранении собственного супруга и о предстоящем скандале, который мог навредить карьере Жоржа. Должно быть, она испытала величайшее облегчение, узнав, что суд над участниками дуэли завершился банальной высылкой д’Антеса за пределы России. Он выехал первым: 19 марта 1837 года, согласно приговору суда, его отвезли до границы империи в открытых санях, как арестанта. Через полторы недели Катрин отправилась вслед за мужем. Она ехала в одном экипаже с бароном Геккерном и его слугой Жан-Жаком Шоссером, и 1 апреля они пересекли границу. В тот момент, да и позднее — уже во Франции — смертельно напуганная баронесса мечтала лишь о том, чтобы более никогда не возвращаться на родину. И действительно, вернуться ей было не суждено.
С бароном Геккерном они добрались до Берлина, где их встречал д’Антес. Далее путь молодых супругов лежал в Сульц, а Геккерна — в Гаагу. Там ему предстояло уладить свои дела, пошатнувшиеся после отставки в Петербурге. В конце июня, когда баронесса Катрин была примерно на шестом месяце беременности, муж возил ее в Баден-Баден, чтобы вновь увидеться с “отцом” Геккерном. Старый барон как тень следовал за молодой четой и все последующие годы, а после кончины Катрин уже не расставался с д’Антесом. Это он ввел Жоржа в политические игры, в которых бывший кавалергард поначалу мало что смыслил.
Современники утверждали, что после революции 1848 года, поддерживая республику, д’Антес даже отказался на время от баронского титула и представлялся скромно: “виноградарь”. Тогда он пользовался доверием видного политического деятеля Луи Адольфа Тьера, и последний пригласил его выступить в роли секунданта на двух своих поединках, поскольку после убийства русского поэта д’Антес слыл во французском обществе отчаянным дуэлянтом. Первый поединок Тьера — с министром и редактором газеты “Насиональ” Улиссом Трела — едва не состоялся в памятную для д’Антеса дату 27 января — день его рокового поединка с Пушкиным. В другой раз Тьер стрелялся с левым депутатом Биксио. Поединок происходил в Булонском лесу. К счастью, оба противника не пострадали.
Тем временем цвета на политическом небосклоне Франции стремительно менялись. Тьер скоро перестал быть главой республиканского правительства и в законодательном собрании 1849–1851 годов стал одним из вождей монархистов, а затем и вовсе проиграл битву за власть. Тогда д’Антес переметнулся на сторону первого президента республики Луи Наполеона Бонапарта, На этот раз его политическая ставка оказалась верной: приход к власти Наполеона III обеспечил “виноградарю” из Сульца блистательную карьеру, упрочил его благосостояние. Став в сорок лет сенатором (должность пожизненная), он получал, согласно закону, тридцать, а затем шестьдесят тысяч франков годового дохода.
Родной Сульц также не был оставлен без внимания. Здесь стараниями д’Антеса была устроена первая канализация, обновлена центральная городская площадь с фонтаном, увенчанным фигурой покровителя города — св. Маврикия (St. Maurice). Когда мы оказались на той площади, она нас несколько разочаровала, поскольку совершенно утратила следы былой, более ранней жизни, ради которой мы туда ехали.
…Когда мы наконец подошли к привокзальной страсбургской площади, дождь, который с ночи собирался над городом, внезапно обрушился со всей силой. Еще несколько шагов, и между нами и вокзалом выросла стена ливня. Казалось, что кому-то хотелось испытать твердость нашего намерения добраться в этот день до Сульца. И все же, противясь дурным предчувствиям, мы решительно окунулись в суету вокзала. Быстро отыскали кассу и, довольные, с билетами в кармане, пристроились в уютном кафе, ожидая прибытия поезда. Накануне коллеги из Университетской национальной библиотеки, с которыми мы трудились над нашей выставкой, подробно описали нам маршрут: с минуты на минуту должен был появиться поезд, который довезет нас до станции Мюлуза (Mulhouse). Оттуда до Сульца уже совсем недалеко — на рейсовом автобусе, расписание которого мы также получили заранее.
В ожидании поезда осмотрелись по сторонам и внезапно осознали, что находимся внутри старого здания вокзала, давно отжившего свой век. Снаружи оно бережно укрыто ультрасовременной постройкой, напоминающей гигантскую — длиной в 120 метров — каплю серебристой ртути или летающую тарелку, случайно присевшую на лужайку посреди старого города. Внутри “тарелки” расположились современные вокзальные службы, которые не вмещаются в старое здание, построенное в позапрошлом веке — в 1883 году (за двенадцать лет до кончины д’Антеса).
Если престарелый барон пользовался железной дорогой (а как еще можно было быстро добраться от Сульца до Парижа, где он жил в последние годы?), то его дух и сегодня должен пребывать в этих старинных стенах. По всей видимости, через этот вокзал в октябре 1884 года проследовал кортеж с телом бывшего посланника барона Геккерна. Его везли из Парижа, чтобы похоронить в Сульце, навеки укоренив старого голландца в эльзасской земле. Барон ухитрился прожить две с половиной пушкинских жизни, не дотянув до 92 лет всего двух месяцев. Впрочем, все, что он делал после того, как его “драгоценный Жорж” отнял у Пушкина жизнь, для нас уже не так важно.
Нам интересно другое: в год кончины “старика” Геккерна в далекой России отмечали 85-летие со дня рождения Пушкина. Это было время возвращения поэта в российское общественное сознание и культуру после периода длительного забвения. Именно в 1884 году в Петербурге появилась Пушкинская улица с памятником поэту (московский памятник был возведен ранее — в 1880 году), а художник А. А. Наумов взялся за полотно, посвященное роковому поединку на Черной речке. Выкупил эту картину и подарил ее Императорскому Александровскому лицею великий князь Николай Михайлович, который не мог тогда знать, что дата смерти поэта — 29 января — зловеще откликнется в его собственной судьбе. В 1919 году в этот день, хотя и по новому стилю, он будет расстрелян.
А вот младший брат великого князя — Михаил Михайлович, как известно, избежал подобной участи, и именно благодаря тому, что связал свою судьбу с родом Пушкина. В 1891 году он женился на внучке поэта по линии его младшей дочери — графине Софье Меренберг (в замужестве графине де Торби). Русский император-
ский дом долго не признавал законность этого морганатического брака и лишил великого князя права вернуться на родину. Принципиальная позиция Романовых сохранила жизнь внуку Николая I и зятю Пушкина, его семье и потомкам. Впрочем, это уже совсем иная, но все же пушкинская история.
Пока мы пили кофе в зале ожидания страсбургского вокзала, число строк на табло с расписанием подозрительно сократилось. Пришлось обратить внимание на тревожно бегущую снизу информационную строку. Она сообщала об изменении в расписании в связи с каким-то инцидентом на дороге. Бросились в кассу — ведь у нас впереди согласованный автобус! Кассир полушепотом объяснила, что где-то на пути в Мюлузу произошел редчайший для этих мест случай: кто-то то ли бросился под поезд, то ли случайно упал на рельсы. В любом случае, когда теперь восстановится движение, неизвестно: “Следите за расписанием”. Девушка сочувственно выслушала наши сетования насчет автобуса в Мюлузе и согласилась принять билеты обратно.
Площадь за стенами вокзала утопала в ливне… Теперь уже трудно было не поверить во вмешательство недобрых сил: будь живы те, к кому мы ехали в этот день, кто-то из них непременно попытался бы остановить нас! Подумали, разумеется, о старом дипломате Геккерне, способном на любые козни… Ему уж точно не пришелся бы по душе план нашего вторжения в Сульц.
На другой день среди тяжелых туч, которые напоминали скорее о петербургской осени, чем о весне во Франции, появились просветы. Дождь уже на частил, как накануне, и мы рискнули еще раз проделать вчерашний путь к вокзалу. По дороге больше вспоминали не о Геккерне и д’Антесе, а о Екатерине Гончаровой. Она-то могла и обрадоваться гостям из России. Не знаю, взяла ли она нас под свое покровительство, но на этот раз в Мюлузу мы отправились точно по расписанию.
Скоро за окнами вагона появилась первая станция — Селеста (Sélestat), тихий провинциальный городок, сохранивший в своей старой части нарядные фахверковые домики и пару старинных соборов. Здесь в октябре 1681 года после капитуляции Страсбурга члены его городского совета присягали на верность королю Людовику XIV. Это означало окончательное присоединение эльзасских земель к Франции.
Селеста — родина новогодней елки. Это открытие мы сделали еще в Страсбурге, рассматривая диковинные экспонаты в музее старого Эльзаса. Уже в XVI веке в Селесте (тогда город носил название Шлеттштадт, по-немецки Schlettstad) существовал обычай наряжать елку в канун Рождества яблоками — символами первородного греха — и церковными облатками-гостиями, которые должны напоминать о возможности искупления греха. В разгар праздника детям разрешалось стряхивать развешанные на елке яблоки и сладкие облатки.
Особый сорт хрустящих краснобоких яблок и сегодня называют здесь рождественским (по-старонемецки — Christkindel Apfel). Их собирают в октябре, а к концу декабря они набирают спелость и сладость. Считается, что однажды случился неурожай яблок, и стекольщики из соседней Лотарингии, из городка Майзенталь (Meisenthal), предложили украсить елки стеклянными шарами собственного изготовления. Возможно, именно так появилось едва ли не самое популярное елочное украшение в мире. Еще на елки вешали бумажные розы, тонкие позолоченные пластины — “золотую слюду” (zischgold) — и металлическую мишуру, которую французы называют “волосы ангела” (cheveux d’ange). Со временем облатки заменили на другие сладости: вначале это были кусочки сахара, завернутые в разноцветные бумажки, затем печенья, вафли в форме звезд и рождественские пряники. В изготовлении таких вещей эльзасские умельцы не знали себе равных.
Нарядные рождественские пряники до сих пор пекут здесь по старинным рецептам. У каждого дома свои секреты. Об этом можно узнать в музее хлеба. Недавно он открылся в здании старой пекарни все в той же Селесте. Там на глазах у зрителей местные кондитеры и хлебопеки готовят печатные пряники, ароматные печенья-бредели (bredeles) самых различных форм, кексы-кугельхопфы (kougelhopf) с изюмом и миндалем, похожие на наш пасхальный кулич и давно ставшие эмблемой всех пекарей румяные крендели-бретцели (brezel), обсыпанные кристаллами мор-
ской соли.
С самого раннего утра не только в праздники, но и в будни по улочкам маленьких эльзасских городов расползаются манящие кондитерские запахи. Говорят, что аромат свежей выпечки делает человека дружелюбнее, напоминая ему об уюте и спокойствии родного очага. Так или иначе, но в здешних крохотных кондитерских вас всегда встретят приветливые улыбчивые продавщицы в традиционной красочной одежде. Свои теплые миндальные печенья они протягивают каждому случайному покупателю: на пробу и совершенно бесплатно. В магазинах сувениров глаза разбегаются от множества больших и крошечных пряничных досок, разноцветных глазированных глиняных форм для выпечки. К каждому празднику свои сюжеты: для пасхального пирога форма в виде ягненка, первоапрельская форма почему-то в виде рыбы, а к Рождеству пекут звезды всех размеров. В плане подготовки к празднику дом баронов д’Антесов не мог быть исключением. Они также должны были накрывать праздничный стол и наряжать рождественское дерево, как это делали их предки.
Мы знаем, что в России обычай наряжать елку прижился только в 40-х годах XIX века. Когда же д’Антес оказался в Петербурге, он мог видеть елки лишь в некоторых домах столичной знати, главным образом немецкого происхождения, да еще в Зимнем дворце, куда этот теплый домашний обычай привнесла императрица Александра Федоровна, рожденная в Пруссии. Русские традиционные Святки — это мирный сочельник в кругу семьи с жареным поросенком, кутьей, овсяными блинами и киселем, чинные походы в гости к соседям и близким, и лишь с третьего дня Святок — колядки с ряжеными (“страшные вечера”), санные катания, чудесная святочная ворожба…
Должно быть, в своем новом эльзасском доме, готовясь к Рождеству, баронесса Катрин не однажды вспоминала о том, как они с сестрами и братьями дружно встречали этот счастливый праздник в калужском поместье Гончаровых. Ее последнее Рождество на родине прошло в тревожном ожидании завтрашнего дня. Вскоре после их обручения с д’Антесом начался Рождественский пост, во время которого не венчали, а после следовало ждать еще три недели. В это время, согласно традиции, в церкви трижды (по воскресеньям) объявляли (“оглашали”) о предстоящем браке. Она высчитывала тогда каждый денек, приближающий к заветному дню. “Мне остается еще 4 недели и 4 дня”, — писала она брату, не скрывая, что “со смертельным нетерпением” ждет завершения головокружительной истории с замужеством.
Оказавшись в Эльзасе, баронесса Катрин впервые наблюдала совсем другой рождественский праздник. При ней в дом вносили елку, сверкающую огнями свечей, которые символизировали звезды на небе. В сочельник к детям приходили традиционные сказочные персонажи. Главный из них — местный Дед Мороз — Пэр Ноэль (Pére Noel) — “бывший” святой Николай. Хорошим детям он раздавал подарки и денежки. Во времена Реформации его переименовали, но переодевать не стали: так по сей день он и ходит в епископской рясе и высокой тиаре. Его спутница — юная девушка в воздушном белом платье — олицетворяет младенца Христа (Christkindel). На голове у нее корона из золотой бумаги со свечами, в руках колокольчик и корзина со сладостями. Третий рождественский персонаж — злобный и ужасный Ханс Трап (Hans Trapp). Он носит имя реального рыцаря, который в древние времена терроризировал округу, а после смерти стал устрашающим призраком (в других регионах подобный персонаж зовется рождественским страшилищем: Le Pere de Fouettard). В мешке Траппа заготовлены не конфеты и пряники, а суровые розги, предназначенные для непослушных озорников.
Трудно сказать, часто ли Ханс Трапп навещал в детстве Жоржа д’Антеса, но, судя по семейным воспоминаниям, он рос бездельником и шалопаем, по которому скучали розги в мешке рождественского Страшилища. Учение мало интересовало будущего сенатора и депутата, и даже его внук — Луи Метман — вспоминал о весьма посредственном образовании деда, о том, что читал он всегда мало и даже французскую грамоту так и не осилил в совершенстве: всякий раз, составляя официальные бумаги, справлялся о правильности написания французских слов у учителя своего сына.
Минут через десять поезд остановился на следующей станции — Кольмар (Colmar), которая располагает к тому, чтобы продолжить рассказ об удивительной атмосфере эльзасского Рождества. Известно, что именно здесь — в столице департамента Верхний Рейн, на площади Доминиканцев — проходит один из самых колоритных рождественских базаров. В такие дни горожане переодеваются в красочные костюмы королей и трубадуров, на уличных подмостках выступают жонглеры и акробаты. Еще Кольмар называют винной столицей Эльзаса. Ассоциируется он и с именем великого вольнодумца Вольтера, который жил здесь около года и оставил довольно скептический отзыв о горожанах: “Небольшой набожный городок, где все вокруг только и делают, что ходят в церковь исповедоваться, и все вокруг друг друга ненавидят”.
Здесь, среди тех самых кольмарцев, двуличие которых коробило Вольтера, 4 февраля 1812 года появился на свет Жорж Шарль д’Антес — человек, которого один из его русских знакомых назвал “совершеннейшим ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении”.
Впрочем, резкое суждение Вольтера касалось далеко не всех жителей Кольмара. Познакомившись с некоторыми из них поближе, получив доступ к их обширным библиотекам и знаниям, он начал отзываться о своих новых знакомых как о людях вполне достойных и даже признался, работая над своими “Летописями Империи” (Annales de l’Émpire): “Я нахожусь в единственном во Франции регионе, где можно найти ценные сведения по предмету, которым совершенно не владеют в Париже”. Позднее Вольтер удивлялся тому, что, покидая Кольмар, испытал некоторое сожаление.
Нам также пришлось пережить сожаление, поскольку Кольмар мы проехали мимо. Сойти с поезда на этой станции мне довелось лишь спустя несколько месяцев после нашей поездки в Сульц, когда я снова по воле случая оказалась в Эльзасе. Именно тогда, блуждая среди живописных улочек этого сказочного городка, я вы-
шла к зданию старой мэрии, куда в феврале 1812 года внесли новорожденного д’Антеса. Тем самым, согласно традиции, существующей со времен Великой французской революции, был засвидетельствован факт его рождения. Там же в 1841 году д’Антес получил долгожданное свидетельство о том, что ему и его детям разрешено носить голландское имя его покровителя барона Геккерна.
Дом, где родился д’Антес, был построен в Кольмаре его дедом. Говорят, что тот дом сохранился, но искать его не хотелось. Зато на старой улочке Берты Молли (Rue Berthe Molly, 10) нашелся дом, в котором квартировал Вольтер. Это совсем неподалеку от церкви Св. Мартина с ее знаменитыми колоколами. Их звучание, по мнению нынешних экспертов, самое гармоничное во всей Франции, но, возможно, как раз этот звон и навел Вольтера на мысль о показной набожности кольмарцев.
По соседству с домом Вольтера сохранилась двухэтажная крытая галерея, возведенная в 1598 году и упоминаемая теперь во всех туристических справочниках Кольмара. Хотя в Европе не принято без спроса заглядывать в чужие дворы, устоять от соблазна было невозможно. Тем более что ажурные чугунные ворота оказались распахнуты настежь. За ними открывается широкий просторный двор с двумя примечательными сооружениями. Слева от ворот к дворовому фасаду соседнего дома прилепился странный домик, напоминающий подвешенную к небу избушку. Она устроена на высоченных и тонких металлических “ногах”-опорах. Оказалось — всего лишь бывший склад хмеля, когда-то принадлежавший местной пивоварне.
Справа, вдоль внутреннего фасада другого дома, протянута линия бывших сараев с наглухо запертыми дверями. За пыльными стеклами кривых окошек совершенно невозможно рассмотреть, что там внутри. А вот над сараями устроена та самая галерея с крышей на деревянных резных столбах и покосившейся деревянной балюстрадой. На галерею ведет скрипучая ветхая лесенка с частично провалившимися ступенями — картина довольно редкая в этих местах, где все принято лакировать почти до неестественного блеска. Когда-то здесь сушили сено и кожи, отдыхали за чашкой чая или чего покрепче. Теперь, взойдя по лесенке, оказываешься среди ненужных, отслуживших свой век вещей. На галерее пахнет старьем и мышами, и ноги утопают в слое многовекового мусора и пыли. Повсюду — ветхое тряпье, бесформенные железки, старая изломанная мебель. Невольно вспомнишь слова Вольтера о его жилище, расположенном неподалеку: “Этот мерзкий город, где я живу в мерзком доме”.
Город был заложен в дельте реки Мюстер — в том месте, где она впадает в Рейн, — еще в IX веке. Через него протекает живописная речушка Лош, превращенная в “маленькую Венецию”, — с причалами, занятыми крошечными, висячими над водой ресторанчиками, с гондолами и веселыми гондольерами. Уже в XIII столетии Кольмар стал вольным городом, а после присоединения к Франции в нем разместился Суверенный совет Эльзаса — суд, осуществляющий юрисдикцию во всей провинции. Сегодня даже Страсбург находится в подчинении апелляционного суда Эльзаса.
Кольмар процветал как город свободных ремесленников и виноделов, но после Тридцатилетней войны (1618–1648) некоторое время входил в состав Швеции. Тогда в этом регионе и появились предприимчивые шведы, бежавшие с острова Готланд, который долгое время оставался яблоком раздора между шведским и датским королями. Среди эмигрантов был и сын кожевенника Антес, потомки которого осели в Эльзасе и с успехом прибавили к своей фамилии дворянскую приставку “де”.
Кольмар — это непохожие друг на друга разноцветные домики, сложенные из камня, с кривыми фахверковыми балками, которые смотрятся как дополнительные украшения, а не несущие конструкции; это живописные дворики, древние колодцы, кружевные кованые вывески местных ремесленников: колбасников, пекарей, пивоваров, мясников, сыроделов, жестянщиков, кожевенников, обувщиков. Здесь продолжают жить своей жизнью целые кварталы, построенные в эпоху позднего Средневековья и раннего Возрождения. Каждый шаг в лабиринте уютных извилистых улочек возвращает в детство, воскрешая в памяти иллюстрации к волшебным сказкам Шарля Перро или братьев Гримм.
Естественно, что мне хотелось заглянуть в музей игрушек, где я надеялась отыскать кукол или солдатиков пушкинского времени. Но из витрин местного музея на меня взирали петушки и матрешки русского происхождения: в те дни Кольмар принимал выставку из музея Сергиева Посада. Стоило же проделать такой дальний путь, чтобы во французской глубинке любоваться рубленными топором игрушечными медведями, тряпичными куклами, выпеченными из теста родными козулями да деревянными расписными лошадками! К счастью, два других этажа музея, где размещена постоянная экспозиция, оказались буквально переполнены множеством игрушек, перекочевавших сюда со всех концов Европы: кукольные домики со всем своим содержимым, разнообразные машинки, куклы-автоматы, заводные поезда, игрушечные кораблики, самолеты… Металлические и деревянные, тряпичные и пластмассовые — все эти яркие и потускневшие от времени игрушки звучат, двигаются, радуют душу и глаз. В них могли играть дети д’Антеса, его внуки и правнуки, но, увы, в России в далеком 1836 году о таких игрушках еще не знали.
Музей встретил не сакральной тишиной огромных залов, что было вполне ожидаемо, а детским оживленным гвалтом. Он был сосредоточен где-то в глубине здания. Смех и всплески восторга доносились до самого входа, мешая мне объясниться с кассиршей о цели моего визита. Оказалось, что наверху маленькие зрители с упоением следили за заводным поездом, бегающим по огромной игрушечной железной дороге, а в соседнем зале разыгрывалось целое театральное действие. Здесь устроен настоящий театр марионеток, подобный старинным уличным балаганам. За тяжелыми бархатными кулисами — декорации, воссоздающие атмосферу Эльзаса XVII века. Перед сценой прохаживается сам господин Жан де Лафонтен в камзоле и парике. Оживший классик комментировал поступки персонажей, вступал в диалоги с куклами и со зрителями, а те бурно реагировали на происходящее, отчаянно переживая за сказочных героев.
Наблюдая за этим необычным действием, невольно задумаешься: а чему учат незатейливые салонные сказки и басни Лафонтена? Торжеству лукавства над простотой, а лицемерия над доверчивостью? Фамильярному осмеянию того, что для среднего обывателя кажется излишне возвышенным? А может, был близок к истине Руссо, когда утверждал, что цель Лафонтена — приучить читателя к неизбежности порока в этом мире, не ведающем ни жалости, ни сострадания? Трезвая расчетливость и плутовство его персонажей — кузнецов собственного счастья, их стремление к наслаждениям земными благами и глумление над “высокими” ценностями оказались отличительными чертами героев нашего путешествия — “ловцов удачи” баронов Геккернов.
О д’Антесе я невольно вспомнила и в средневековом музее готического аббатства Унтерлинден (Unterlinden). В стенах бывшей обители собраны вещи, из которых столетиями складывалась повседневная жизнь кольмарцев: затейливые вывески ремесленников, домашняя утварь, игрушки, одежда, разнообразная мебель, произведения искусства. Особенно трогательно выглядит деревянная и каменная скульптура — мадонны и пророки, распятия и святые, перешедшие со своих привычных мест в здешних храмах в музейные залы. Они, как и прежде, взирают на зрителя торжественно и строго и будто объединяют нас сегодняшних с теми, кто на протяжении веков искал в них духовную поддержку и опору. Но современный турист недолго задерживается возле них, поглядывая в каждом зале на указатель с магическим словом “Retable d’Issenheim” — Изенгеймский алтарь. Дойдя до него, и я поняла, что нельзя уехать из этого города, не встретившись с этим произведением великого мастера северного Возрождения Матиса Нитхардта (его также называют Матисом Грюневальдом). На нескольких гигантских створках-развертках со сценами из Св. Писания художник сумел показать трагическое и вечное противостояние чистой человеческой души беспощадному миру страстей и пороков.
Жаль, что в юности д’Антес не имел возможности молиться перед этим алтарем. А ведь он был предназначен для обители ордена Антонитов, расположенной в двух километрах от его родного Сульца — в местечке Изенгейм (фр. Issenheim, нем. Isenheim). Великая французская революция уничтожила монастырь, но творение Грюневальда пощадила: его перевезли на хранение в Кольмар.
Сцены “воскресного” ряда алтаря — Благовещения, Прославления Богоматери и Рождества, исполненные фантастического вселенского ликования, открывались перед верующими в большие церковные праздники. В будни полагалось видеть только Распятие, которое завораживает зрителя, как мистическое откровение. Это необычное, гигантское по размерам изображение, полное страстного духовного накала, повествует о безмерном страдании и глубоком отчаянии на фоне бесплодной и мрачной пустыни жизни. Встречи с подобными творениями не дают закоснеть душе. Но, повторяю, ни д’Антес, ни его супруга не могли знать о существовании этого шедевра, который справедливо считается чудом не только своего времени.
В то время, когда баронесса Катрин бывала в Кольмаре, здесь поклонялись другому произведению, также известному сегодня во всем мире, — печальной и трогательной “Мадонне в беседке из роз” кольмарского мастера Мартина Шонгауэра (XV век). Хрупкая Мадонна, исполненная кротости и величия, помещена художником в дивный райский сад, где цветут растения и поют птицы, по сей день населяющие сады и леса Эльзаса. Мадонна излучает смирение и тревогу. Ее нервная утонченность пронизывает душу, обращая зрителя к реалиям его собственной жизни. Глядя на нее, почему-то хочется верить, что баронесса Катрин д’Антес могла находить успокоение рядом с этим образом. Погруженная в пронзительное одиночество посреди своих эльзасских красот, баронесса не могла не думать с тревогой о своем будущем. Нет, ей не предстояло принести сына в жертву человечеству. Жертвой оказалась ее собственная жизнь, подчиненная страстной любви к человеку, который не готов был ответить взаимностью. Ведь под венец он отправился фактически под дулом пушкинского пистолета.
Но я слишком забегаю вперед. Повторю: знакомство со столицей департамента Верхний Рейн было еще впереди, а пока волнующая надпись “Colmar” проплыла за окном, оставляя ощущение незавершенности пути. Впереди — через четверть часа — Мюлуза, откуда прямой путь на Сульц.
В Мюлузе на привокзальной площади народ торопливо рассаживался в пригородные автобусы. До нашего рейса оставалась еще уйма времени, но хотелось отыскать остановку, с которой мы должны отправиться к месту назначения. Коллеги в Страсбурге говорили, что автобус останавливается прямо против вокзала, но расписания этого рейса нигде не было. Обескураженные, мы вернулись в здание вокзала. Сотрудник службы информации снова отправил нас на площадь. Обойдя безрезультатно все остановки без исключения, а их там немало, мы обратились к местным таксистам. Те оживились, пользуясь случаем поговорить с иностранками. Из вредности или по глупости, но все они единогласно советовали искать наш автобус на другом конце города. Собравшись по их рекомендации прыгнуть в отходящий трамвай, мы вдруг остановились. Мысль, что кто-то снова сводит нас с верного пути, заставила возвратиться в здание вокзала.
На листке бумаги я наспех изобразила вокзал, площадь и расставленные на ней автобусные остановки. Служащий информации поставил твердую жирную точку перед самым входом в вокзал — там, где, по его мнению, должен будет появиться наш автобус. Надо сказать, это была единственная остановка, на которой расписания вообще не было. Точнее, кто-то сорвал его, оставив наклеенным на стекле лишь крохотный верхний край листа.
Заранее зная о времени отправления автобуса, мы доверились мнению вокзального служащего и решили побродить пока в привокзальных улочках. Перешли площадь, быстро опустевшую после прибытия нашего поезда, взошли на мост над сонным каналом Рона–Рейн. Зеленые склоны канала усеяны частыми сочными каплями диких маков, а водная гладь уставлена многочисленными яхтами, которые в своей безлюдности и неподвижности казались игрушечными. Вообще-то канал рабочий: он построен в 1832 году, чтобы соединить две великих реки. По нему можно проплыть почти до Бельфора — самого узкого горлышка в котловине между горными хребтами Вогезов и Юры. Когда-то это горлышко было единственным транспортным коридором между Роной и Рейном. Его называли Бургундскими воротами или Бельфором (Trouée de Belfort). Для французов Бельфор был выходом в немецкое герцогство Баденское, для немцев — преградой, замыкающей долину Роны. Мощная крепость Бельфор и соседние с ней форты долгое время оставались ареной непрерывных военных конфликтов и, естественно, нуждались в новом вооружении, подпитывая своими заказами местные предприятия. Именно там — в важнейшем стратегическом пункте Эльзаса, контролирующем путь между Францией и Германией,— прапрадед д’Антеса основал в начале XVIII века один из своих чугунолитейных заводов.
За каналом Рона–Рейн — на огромном пространстве перед вокзалом — памятник жертвам Первой мировой войны и французского Сопротивления. Венки с живыми цветами — свидетельство того, что здесь действительно никто не забыт. Это особенно остро ощущаешь в начале мая, когда Франция готовится к празднованию Дня Победы.
Во время последней немецкой оккупации Эльзас был фактически аннексирован Германией. Более ста тысяч эльзасцев были призваны в немецкую армию. Об участии (или неучастии) потомков д’Антеса в тех мировых бойнях мы ничего не знаем. Последние из членов семьи покинули родовое гнездо, кажется, в 1939 году, избежав немецкой оккупации. Мы собирались расспросить об этом кого-нибудь в Сульце, но когда окунулись во все тамошние впечатления, мировые войны отошли на задний план.
По небольшой извилистой улочке, застроенной домами XIX века, но в прежних средневековых границах, мы вышли к руинам старых городских укреплений и башен. Их трудно назвать руинами, столь любовно подан здесь каждый сохранившийся камень. Французы, как и вообще европейцы, находят особое удовольствие в обустройстве исторических памятников, будь то замок покровительницы Эльзаса — легендарной святой Одилии, где равно хранят память как о духовных традициях древних кельтов (язычников), так и о христианской святости этих мест, или бывшие городские ворота Мюлузы, перед которыми сооружен их легкоузнаваемый символ — гигантский ключ, отлитый из чугуна.
Мюлуза — старый университетский город, второй по величине в Эльзасе. Заслуженную славу принесли ему текстильные фабрики, устроенные в XVIII веке. Хотелось хоть одним глазком взглянуть на образцы мюлузских набивных тканей и обоев в местном музее, тем более что одна из здешних ситценабивных “индийских” фабрик была создана в 1762 году двоюродным прадедом д’Антеса — Франсуа Филиппом, но как свернуть с намеченного пути, если впереди Сульц?! Среди других соблазнительных мест, также оставленных “на потом”, — сад Мечты (Jardin des Songes). Он устроен как парк-путешествие по садам мира. Известность Мюлузе принес и самый крупный в мире национальный музей ретроавтомобилей (Cité de l’Automobile), насчитывающий более 550 экспонатов. Кстати, в начале XX века именно здесь появился первый автомобильный завод Пежо. Но в Сульц мы оправились на автобусе другой французской фирмы — Renault. На той самой остановке с отсутствующим расписанием, которую мы так долго разыскивали, автобус появился за несколько минут до отправления. Пассажиров совсем немного, и мы без труда заняли два места впереди, готовясь в течение примерно получаса осматривать окрестности.
Едва автобус тронулся, из-за туч показался краешек солнца. Погода начинала радовать, вселяя надежду на то, что неудачи остались в покинутом нами Страсбурге вместе со стеной уходящего дождя. За окнами проплывали поля и деревни Эльзаса. Это по-немецки так звучит — Elsass, а по-французски — Альзас (Alsace). Незнакомый край в самом сердце Европы — одноэтажная провинция на северо-востоке Франции, утопающая в майском цветении сирени, жасминов, глицинии. Невысокие домики со стенами, выкрашенными в нарядные розовые, салатные, сиреневые, палевые цвета. На окнах висячие корзины с цветами, за стеклами окон — непременные резные занавески, часто бумажные. Низкие ограды уютных двориков с утопающими в цветах клумбами, деревянными разноцветными беседками, скамеечками, веселыми детскими площадками. Кое-где мелькают ровные морковные и огуречные грядки эльзасских огородников. Имеется здесь и такое чудо!
Восемь веков немецкого влияния наложили на этот край особый отпечаток. В Страсбурге, в музее старого Эльзаса, мы видели мебель, одежду, украшения эльзасцев, домашнюю утварь, которые во многом сохраняют немецкий дух. И еще: душа народа — его речь, а эльзасцы по сей день говорят на особом диалекте — смеси французского языка с немецким. В местных фамилиях, названиях деревень и рек отчетливо звучат немецкие ноты. Эльзасские земли оказались закреплены за Францией только при Людовике XIV (по Рисвикскому миру 1697 года), но язык и традиции еще долго оставались немецкими. Общей политической жизнью с Францией этот край стал жить лишь после падения Наполеона.
В этой полунемецкой-полуфранцузской атмосфере прошли детство и юность д’Антеса. Мало того, что предки по линии отца были шведами, по линии матери в его жилах текла еще и немецкая кровь. Вот и считай его после всего этого подлинным французом!
Любопытно, как склонность к немецким традициям проявляется в гастрономических пристрастиях местных жителей. Традиционное эльзасское блюдо шукрут (фр. choucrout, а по-немецки — surkrut) явно, рассчитано на немецкий желудок. Гигантское по объему, оно состоит из нескольких сортов жирных сосисок, бекона, копченой свинины, запеченных с кислой капустой с добавлением рислинга! Не менее сытный бэкофф (bæckeoffe) — еще один вариант смеси различных видов мяса: говядину, баранину, свинину и обязательно свиные хвосты или копыта предварительно маринуют в сухом эльзасском вине, потом перекладывают слоями картофеля и отправляют в печь. В старину бэкофф готовили в печи, еще не остывшей после утренней выпечки хлеба, и держали в ней около трех часов. За это время хозяйки успевали побывать на мессе и вернуться к готовому обеду.
Пожалуй, самое известное и самое изысканное местное блюдо — паштет из гусиной печени, приготовленный в сале и запеченный в тесте,—знаменитый cтрасбургский пирог, воспетый Пушкиным в “Онегине”. Говорят, в 1778 году один из правителей Эльзаса задумал удивить своих гостей необычным блюдом. Вот его повару и пришлось изобрести фуа-гра (Foie gras) — паштет на основе жирной гусиной печени. Впрочем, считается, что впервые этот деликатес стали готовить еще древние египтяне, а в Эльзас его привезли мигранты-евреи. Как знать?
Когда я попыталась расспросить о фуа-гра своих страсбургских друзей-французов, они признались, что стыдятся рассказывать о способе его приготовления. По сути речь идет о больной печени, которую получают закармливая гусей до изнеможения. Для этого птиц держат в неподвижном положении и почти насильно вталкивают в них инжир. Он занимает все пространство желудка и горла — до самого клюва. У перекормленной таким способом птицы печень разбухает до невероятных размеров, достигая почти полутора килограммов и приобретая неповторимый — сливочный — вкус. Правда, теперь вместо инжира птицам могут давать и отварную кукурузу, и даже смеси с добавлением сои. Подобные методы существенно меняют вкус фуа гра, но это уже издержки прогресса.
Без чего точно нельзя представить ежедневный стол эльзасцев, так это без доброго местного вина. Виноградные поля рассыпаны по всей долине, поднимаются вверх, обрываясь у самого подножия мягких холмов и гор. Это знаменитые Вогезы, отделяющие современную Францию от Швейцарии. Горная цепь защищает Эльзас от холодных восточных ветров, а с запада естественной границей региона является долина великого Рейна. Два департамента, на которые поделен Эльзас, так и называются: Нижний и Верхний Рейн. Большую часть года долину прогревает теплое солнце, создавая микроклимат, который позволяет винограду зреть едва ли не до декабря. Знаменитые эльзасские вина производят из винограда, достигшего сочной — медовой — спелости.
Вдоль отрогов Вогезов лежит так называемая винная дорога (route des Vins) Эльзаса. Ее длина 175 километров. Непонятно только, каким образом можно передвигаться по ней, дегустируя различные вина 400 виноделен. Разве только ночуя в каждом из 65 городков и деревень, расположенных на пути? Сульц также включен в состав “винной дороги”: это ее предпоследний пункт, если ехать из Страсбурга на юг в сторону городка Тан. При въезде в Сульц мы видели символы местного винодельческого производства, стоящие на лужайке как раз перед бывшей усадьбой д’Антесов: пресс для винограда и громадные бочки для хранения вин.
Во Франции вина принято называть по месту их происхождения. Эльзас — исключение из общего правила. Вина здесь носят названия местных сортов винограда, довольно простых и неблагородных. Однако умелые виноделы способны превращать их в шедевры своего искусства. Это шесть сортов белого — “Гевурцтраминер” (Gewurtztraminer), “Мускат” (Muscat), “Пино блан” (Pinot Blanc), “Рислинг” (Riesling), “Сильванер” (Sylvaner), “Токай пино гри” (Tokay Pinot Gris) — и один сорт красного — “Пино нуар” (Pinot Noir). Их разливают в особые вытянутые бутылки (flutes) с узкими горлышками и сильно покатыми плечами — так называемые эльзасские флейты. Бывает и так, что на этикетке указано несколько сортов винограда, тогда вино называется Edelzwicker или Gentil. На самом же деле в таких бутылках может быть разлит ценнейший “Гевурцтраминер”. Производитель не имеет права превышать установленный максимум гекталитров с гектара. Вот и вынужден хитрить, продавая излишки элитного вина за бесценок, подчиняясь жестким законам выживания.
Эльзас славен знаменитыми дорогими винами “гран крю”, изготовленными на основе сока четырех сортов винограда: “Рислинга”, “Пино гри”, “Гевюрцтраминера” и “Муската”. Но здесь же производится и дешевое купажное вино “Цвикер” (“Zwicker”), что по-немецки означает “смесь”. В нем соединены несколько сортов винограда, среди которых такие, которые совершенно не годятся для отдельных напитков. Это простое вино всегда пользовалось большим успехом у местных жителей, его часто называют народным, предназначенным для веселой мужской коампании.
Д’Антес, воспитанный в тех краях, где за обедом вина наливали даже подросткам, должно быть, тосковал в России по привычному эльзасскому застолью. Для него было в порядке вещей выходить из-за стола не только сытым, но непременно оживленным. Это состояние придавало общению более непринужденный характер, развязывало язык, порождало остроты, не всегда уместные в трезвой компании. Приятели по полку и даже некоторые светские дамы особенно ценили в кавалергарде именно его раскованность и беспечность.
Однажды летом 1836 года д’Антес и его друзья-кавалергарды устроили под Петербургом пикник. “Креман и саллери лились ручьями в горла наших кавалеров”, — рассказывала об этой веселой встрече ее участница Екатерина Мещерская. Она также заметила, что молодые люди “встали все из-за стола более румяные и веселые, чем когда садились, особенно д’Антес и Мальцов, который трещал без умолку, не жалея наших ушей”.
Игристое вино “Креман” производится в разных районах Франции. Каким именно наслаждались участники пикника, сказать сегодня трудно. Но это могло быть и популярное во Франции “Креман д‘Альзас” (Cremant d‘Alsace). “День стоял чудесный, общество было молодое, жизнерадостное, смеялись, бегали, падали в траву, поднимались под шумные взрывы смеха зрителей”, — продолжала рассказ Мещерская. Обстановка парголовского пикника показалась ей похожей на “смеющуюся зеленую Германию”.
За окнами автобуса, который вез нас в Сульц, проплывала не Германия, но ее ближайший родственник — “смеющийся зеленый” Эльзас. В своих письмах баронесса Катрин д’Антес рассказывала родным, что здешняя природа — рай на земле: “…не то, что в вашей ужасной стране, где мерзнут с первого дня года и почти до последнего”. Как скоро оставленная наспех родина стала для нее вашей! Как хотелось ей убедить близких, а возможно, и саму себя в том, что ее новая жизнь достойна всяческих похвал и даже зависти. “Надо признаться, дорогой Дмитрий, — читаем в письме к брату, — что ты и я, мы оба счастливые смертные в браке, так как я тоже счастливейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня. Я счастлива также всем тем, что меня окружает, не знаю, как и благодарить небо за все то счастье, которое оно мне посылает, и, право, не знаю, что я сделала, чтобы его заслужить. Моя маленькая дочка прелестна и составляет наше счастье, нам остается только желать сына”.
Она звала брата в Сульц погостить, заверяя, что поездка не утомит его, а счастливая встреча превзойдет все ожидания. “Ты хочешь, чтобы я сообщила тебе подробности о Сульце, — с обидой заметила Катрин в одном из первых писем к брату. — Я очень удивлена, что ты его не нашел на карте Лапи, он там должен быть, посмотри хорошенько. Это очень милый город, дома здесь большие и хорошо построенные, улицы широкие и хорошо вымощенные, очень прямые, очаровательные места для гулянья. <…> Общество, правда, невелико, но есть достаточная возможность выбора, а ты знаешь, что не количество, а качество является мерилом вещей; что касается развлечений, то они тоже у нас есть: бывает много балов, концертов, вот как!” “Да здравствует Франция, наш прекрасный Эльзас, я признаю только его, — читаем в другом ее письме к родным. — В самом деле, я считаю, что, пожив здесь, невозможно больше жить в другом месте, особенно в России, где можно только прозябать и морально, и физически”.
Самолюбивая, как все Гончаровы, она никогда бы не решилась признаться близким, что “прекрасный Эльзас” не освободил ее от нравственных страданий, что лживые слова и притворные ласки мужа заставляли ее и здесь “прозябать”, пусть и не физически, но морально. Однако на родину доходили какие-то слухи. Там знали, что семейная жизнь Катрин протекала не безоблачно, и впоследствии одна из ее племянниц — Александра Арапова, старшая дочь Н. Н. Пушкиной от брака с П. П. Ланским, — утверждала, что тетка привязалась к своему мужу со всею страстью, но с годами убедилась, что “ничто не в силах победить его равнодушие и холодность”. Гончаровы были уверены в том, что “разочарование в надеждах и ревниво гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу”.
Едва успевая следить за сменяющими друг друга пейзажами, мы щелкали фотоаппаратами, и только дома, рассматривая отснятое, заметили на одном снимке дорожный указатель, на который не обратили внимания: “Soultz 2 km”. Возможно, именно по этой дороге, кое-где обсаженной каштанами, а местами — удивительное дело — березами, в апреле 1837 года д’Антес вез жену в свой родной Сульц. Молодую женщину ожидала встреча с новой родней, обустройство на новом месте и пять с половиной лет супружеской жизни. Нам же хотелось проникнуть едва ли не во все эти подробности всего за несколько часов знакомства с ее домом и здешними местами.
Сульц — городок крохотный, насчитывает около семи тысяч жителей, но это в два раза больше, чем их было тогда, когда здесь поселилась баронесса Катрин. Мы знали, что нам следует сойти на остановке “Проспект Шарль Де-Голль” (Avenue Charles de Gaulle). Оказалось, что это весьма громкое название для неширокой улицы, состоящей из нескольких десятков двух- и трехэтажных жилых домов. Некоторые из них — в основном особняки эпохи Второй империи — разместились за заборами и живыми изгородями, но большая часть строений, в том числе средневековых, по старинке стоит прямо вдоль тротуаров. Кажется, что достаточно постучать в окно, и из него выглянет радушная хозяйка.
Не зная, в каком направлении искать дом д’Антесов, мы шли наугад — туда, где авеню Де-Голль упирается в перпендикулярную к нему улицу с именем известного республиканца Жана Жореса (rue Jean Jaurés). Автобус скрылся за углом, а перед нами красовались три двухэтажных дома под коричневыми черепичными крышами. Каждый из них окрашен в свой цвет: голубой, желтый и розовый. За окнами желтого домика — белоснежные резные занавески с сельскими видами, но внимание привлекли не они, а изображенные на стене две странные фигуры: заяц, приподнявшись на задних лапах, целился из огромного ружья в убегающего вприпрыжку охотника. Заяц нарисован слева от центрального окна, охотник — справа. По всей видимости, это была реклама “Охотничьего кафе” (“Café au chasseur”), расположенного на первом этаже.
У нас эта живописная сценка улыбки не вызвала. Скорее мы опешили, увидев ее. Вероятно, потому, что грубоватый сюжет напомнил о другом — совсем невеселом — событии, связанном со стрелком, рожденным в этих местах. Впрочем, история этого города принадлежит не только д’Антесам, хотя из России нам кажется, что лишь им одним.
Через несколько часов местные жители объяснили нам, что все мужчины Сульца с младых ногтей готовятся стать охотниками. Город фактически граничит с традиционным местом здешней охоты — уходящим в горы лесным массивом. Лес виден повсюду из окон домов, просматривается в створах улочек. Там и сейчас обитают дикие косули и кабаны, лисы и зайцы, а во времена д’Антеса водились даже волки.
Вспомнили, как Екатерина просила брата прислать для ее мужа борзых собак: “Не покупай датских, он их достанет здесь. Все, что он просит, это прислать ему пару больших и красивых борзых, из тех, что выводят в России”. В другом письме уточняла, что борзые нужны именно для охоты на волков: “Эта страстишка моего дорогого супруга, от которой он никак не может избавиться…” “Не топай ногой и не говори “черт возьми!”, это невежливо”, — добавила Екатерина в том же письме, очевидно, полагая, что ее просьба может не понравиться брату. Еще бы! Д’Антес и его жена постоянно требовали от Гончаровых выплаты определенных сумм из общего семейного капитала, и Дмитрий мог подумать, что борзые пойдут в счет тех денег, а с их доставкой он не слишком торопился.
Екатерине снова и снова приходилось напоминать брату о просьбе мужа: “Дело идет о поручении, которое я уже давала более года тому назад и о котором ты, вероятно, совершенно забыл. На этот раз я убедительно прошу тебя об этом, и если ты не можешь этим заняться сам, поручи кому-нибудь, кто в этом понимает. Вот в чем дело: надлежит купить пару хороших борзых (суку и кобеля), очень высокого роста, с длинной шерстью, которые были бы хорошо натасканы на волков. Мой муж предоставляет тебе полную свободу в отношении цены, нет такой жертвы, которую он бы не принес в этом отношении. Его единственное удовольствие здесь — это охота, и, несмотря на все его старания, он не может достать таких собак, а он уверен, что именно борзые лучше всего для этой охоты, вот почему он так настойчив в желании их раздобыть. К тому же он легко вернет деньги, затраченные на покупку, так как у него не будет недостатка в любителях собак, и потомство от привезенных из-за границы предков вполне все окупит.
Если в округе ты не найдешь то, о чем я тебя прошу, то в Москве это легко сделать, поручи Андрееву или кому-нибудь другому, и если хоть немного постараться, я уверена, что можно найти. Помнится, в мое время их продавали в Охотном ряду по воскресеньям и приводили целые своры к Пресненской заставе для боя с волками, и прежде чем их купить, надо, чтобы ты поручил их испытать знатоку этого дела, потому что непременно нужно, чтобы, по крайней мере, одна из собак показала свое уменье. В Петербурге при помощи Носова пусть их отправят с первым же пароходом в Амстердам, я тебе пришлю адрес, по которому их нужно доставить, а оттуда уже муж позаботится, чтобы они благополучно прибыли сюда.
Прошу тебя, дорогой друг, — никаких отговорок, никаких безосновательных доводов, я не желаю принимать ни один из них. Как я уже тебе сказала, если это тебе докучает, поручи кому-нибудь в Москве и сделай все возможное, чтобы порадовать моего муженька”. Заканчивая письмо, она посчитала нужным добавить: “Обнимаю тебя, дорогой друг, от всего сердца и умоляю выполнить просьбу, с которой я к тебе обращаюсь”.
Когда речь идет о поединке д’Антеса с Пушкиным, обычно вспоминают о том, что кавалергард еще в пору обучения в сен-сирской школе считался хорошим стрелком. Но никому не приходит в голову видеть в нем охотника-профессионала. Между тем это так, и, следовательно, в роковой день 27 января 1837 года он действовал как опытный стрелок, которому не составляло труда выстрелить, не прекращая движения к барьеру. Вероятно, он стрелял тогда инстинктивно, навскидку, не желая медлить.
Охота — занятие рискованное. В особенности — во времена господства нарезных ружей, когда пуля могла дать рикошет от любой ветки. В 1848 году на охоте погиб бывший секундант д’Антеса виконт Оливье д’Аршиак. Подробности той роковой охоты нам не известны, о ней лишь упомянул в своих мемуарах писатель Владимир Соллогуб. Зимой 1841 года и д’Антес едва не поплатился жизнью на охоте. Баронессе Катрин рассказали, что буквально в четырех шагах от ее мужа выстрелило ружье лесника. Это событие произошло почти в годовщину его поединка на Черной речке, но и на этот раз небо не сочлось с убийцей Пушкина, а лишь напомнило ему о той трагедии.
Пуля Пушкина ранила д’Антеса в правую руку, не причинив большого вреда, а также слегка контузила в живот. В XX веке историки заподозрили кавалергарда в том, что, отправляясь на поединок, он надел под мундир кольчугу, поэтому пуля не вошла в живот, а прошла по нему по касательной. Споры о кольчуге не утихают по сей день. Кто-то из исследователей даже предполагал, что барон Геккерн специально посылал в Архангельск человека, чтобы заказать особо тонкую кольчугу-панцирь. Но под мундиром мог быть обычный корсет — модная принадлежность мужского гардероба. В XIX веке корсеты в особенности жаловали военные и… охотники! В свое время в распоряжении семьи д’Антесов имелись целые предприятия по производству холодного оружия и выделки жести. Следовательно, в их гардеробе могли иметь место особо прочные охотничьи корсеты, в которые, помимо полосок из китового уса или кости, продевались тонкие металлические пластины, способные отклонить шальную пулю. Однако эти размышления всего лишь гипотеза, и на сегодня у нас нет достаточных оснований, чтобы утверждать, что 27 января 1837 года на теле кавалергарда был подобный корсет.
В 1841 году на охоте была раздроблена кость левой руки д’Антеса. “Он ужасно страдал, — рассказывала напуганная Екатерина в письме к брату, — и страдает еще и сейчас; слава Богу, рана его, хотя и очень болезненная, не внушает опасения в отношении последствий, врач говорит, что это месяцев на шесть. Это ужасно, но когда я подумаю, что могла бы потерять моего бедного мужа, я не знаю, как благодарить небо, что оно только этим ограничило страшное испытание, что оно мне посылает”.
Но испытания баронессы этим не закончились: весной 1842 года она родила мертвого сына, а в октябре 1843-го — живого, но стоившего жизни ей самой. Пока же, совершенно в стиле грубоватых шуточек Жоржа она сравнивала своих крошечных дочерей с маленькими волчатами, говоря, что у них аппетит именно как у волчат. Ей было приятно сообщить родным, что дочери всегда здоровы, что летом и зимой они помногу гуляют на свежем воздухе: “В коротких открытых платьях с голыми ручками и ножками, никогда никаких чулок, только очень короткие носочки и туфельки, вот их костюм в любое время года”.
Катрин подчеркивала, что их девочки “так же красивы, как и милы, и особенно, что в них замечательно, это здоровье: никогда никаких болезней, зубки у них прорезывались без малейших страданий”. Баронесса отлично помнила, как поздно и болезненно прорезались зубы у ее племянников и племянницы — детей Пушкина, поэтому пассаж по поводу зубов, по всей видимости, был адресован их матери — ее младшей сестре Наталье. “Если бы ты увидел моих маленьких эльзасок, — заключила Екатерина рассказ о здоровье дочерей, — ты бы сказал, что трудно предположить, чтобы из них когда-нибудь вышли худенькие, хрупкие женщины”. Сохранился групповой портрет дочек д’Антеса — розовощеких, крепких эльзасок. Вероятно, портрет был выполнен в 1842 году, когда старший Геккерн получил наконец аккредитацию при венском дворе, и Жорж с Катрин ездили к нему с детьми погостить.
Как и полагала баронесса, все три девушки выросли далеко не хрупкими — не только физически, но и духовно. Особенно отличилась в этом плане младшая Леония Шарлотта. Она была красива, но не желала, подобно своей старшей сестре, становиться украшением императорского двора. В свете считали ее девушкой необыкновенной. Она увлеклась серьезными науками и даже самостоятельно прошла весь курс Высшей политехнической школы. После сдачи экзаменов профессора признали ее одной из первых учениц школы! Но это было еще не все: с годами в Леонии словно проснулись русские гены. Она не помнила матери, никогда не слышала русскую речь и была воспитана сестрой д’Антеса, однако неожиданно стала учить русский язык. Запершись у себя в комнате, где на стене повесила портрет покойного “дядюшки Пушкина”, она наизусть учила его стихи. Младший брат вспоминал, что Леония оказалась “до мозга костей русской” и дерзко обвиняла отца в совершенном преступлении. “Не строй из себя казака”, — парировал д’Антес, но справиться с ней не смог и отправил дочь доживать свой век в доме умалишенных. Там книги Пушкина были с ней до самой ее кончины, которая последовала в 1888 году.
Отыскивая дом д’Антесов, мы свернули по улице Жана Жореса направо и оказались на высоком мосту. Под ним резвая, но удивительно мелкая речушка, шириной около полуметра, похожая на основательно заросший ручей. Слово “ручей” можно расслышать и в названии реки: Римбах (Rimbach). С одной стороны река обрамлена высокой кирпичной набережной с чугунными решетками, с другой — стенами невысоких жилых домов. Судя по высохшим разводам на фундаментах и стенах, ручей иногда превращается в бурную реку, поднимаясь намного выше своего нынешнего уровня. Вдоль извилистого русла реки можно дойти до монастыря в местечке Тиренбах (Tirenbach). Это примерно в шести километрах от Сульца, и позднее нам предстояло там побывать, но пока мы об этом не догадывались.
В глубине улицы, будто выступая нам навстречу, показался высокий трехэтажный дом ярко-желтого цвета с крутой двускатной крышей. Чердачная часть кажется непривычно высокой: судя по расположению окон, там еще целых три чердачных этажа! Особняк-великан явно доминирует над соседними зданиями, которые значительно уступают ему своим ростом. На самом углу прилеплена двухэтажная пятигранная башенка-эркер, увенчанная конусной крышей со шпицем и навершием в виде шара. Во всем сдержанность и аскетизм. Типичный образец архитектуры позднего эльзасского ренессанса. Нет сомнений, что мы у цели нашего путешествия. Моей спутнице кажется странным, что я узнала дом, но я хорошо помню его по фотографиям, которые видела в журналах и в книгах наших соотечественников, успевших побывать в Сульце до нас. Сколько раз, всматриваясь в эти снимки, я мечтала обойти особняк с другой стороны, проникнуть внутрь — за его непроницаемые стены!
Дом имеет два фасада: один протянулся вдоль улицы Жореса и имеет по шесть окон на каждом этаже. Другой — небольшой — выходит в узкий переулок. Его громкое название — rue d’Anthés (улица д’Антес) — напоминает об огромной усадьбе, которая когда-то здесь находилась.
На фасаде, выходящем в переулок, по два окна на каждом этаже. В переулок обращено еще одно здание, соединенное с главным каменной перемычкой и полукруглой аркой накрепко запертых деревянных ворот. Это довольно симпатичный двухэтажный флигель в девять окон по фасаду. Его желтым крашеным стенам придают живописность каменные рамы оконных наличников и каменные карнизы. Из того же розоватого камня выложены рустованные углы и лопатки, слабо выступающие из стен. Позже мы узнали, что именно в этом — “молодом” — флигеле, возведенном в XVIII веке, жила молодая чета, прибывшая из России. С ними и старик Геккерн, когда оказывался в Сульце. Родной отец д’Антеса со всеми чадами и домочадцами — сестрами и младшим братом Жоржа — оставался в старинной части особняка, выходящей окнами на улицу Жорес.
С противоположной стороны переулок д’Антесов огражден обычным каменным забором, местами оплетенным плющом. За ним видны стены хозяйственных строений под черепичными крышами: — бывшие амбары, хлева, сараи, конюшни. Когда-то это была часть большого хозяйства, именуемого Château d’Anthés (замок д’Антесов). Узкий переулок, названный улицей бывших владельцев, разрезал бывшее хозяйство на две части.
По переулку вдоль усадьбы д’Антесов мы прошли почти до самого ее конца. Участок огорожен забором из чугунных прутьев, увенчанных ампирными стрелами. У самой ограды со стороны двора стоит без дела огромная уличная печь. В России она напомнила бы о шашлыках, а здесь — об осени и печеных каштанах. Смотрим под ноги: всюду валяется множество пожухлых, утративших прошлогодний блеск, но довольно крупных коричневых шариков. Жадно набрала их целую горсть, будто надеясь вместе с местными каштанами довезти до России память о былом, об обитателях этого дома, о Екатерине Гончаровой. Судя по всему, это прошлое воспринимается здесь так же, как эти ненужные прошлогодние плоды.
Повсюду следы былого тщательно стираются. Трава во дворе чистенько выстрижена специальными садовыми машинами, о которых во времена баронессы Катрин никто и не помышлял. Тогда за газонами ухаживали просто: выпуская на них домашний скот или вызывая косарей. Теперь повсюду ровно подрезанные кусты цветущих жасминов и сирени. Раньше их тоже стригли садовники, но не настолько идеально. По широкой лужайке разбежались редкие деревья: буки, каштаны, платаны. Все они каких-то невероятных размеров. Мы обратили на это внимание еще в Страсбурге, где во дворах, на улицах и в парках высятся деревья, наполненные какой-то особой мощью. Думали, что это связано с местными почвами. Возможно. Но важно и то, что все эти великаны — долгожители. Есть среди них деревья, посаженные едва ли не во времена Людовика XIV. Такие же гиганты растут во дворе бывшего особняка д’Антесов. В центре двора дуб, который барон велел посадить под окнами супруги осенью 1837 года по случаю появления на свет их первой дочери Матильды. Дуб — известный геральдический символ. Растущий под балконом Катрин, он словно напоминал баронессе о ее главном назначении в этом доме — рожать наследников.
Во дворе ни души, но с противоположной его стороны мы увидели широкий въезд для машин. Чтобы оттуда войти во двор, пришлось вернуться назад на улицу Жореса и обойти дом слева. Аккуратно вымытые окна плотно зашторены. Снаружи на них на первом этаже чугунные решетки, на втором и третьем — распашные красно-коричневые ставни-жалюзи. Отсутствие цветов на подоконниках создает впечатление холодной отстраненности. Впрочем, нам это могло лишь показаться.
К дому примыкает чугунная ограда — такая же, как со стороны переулка. За оградой современная крытая галерея из дерева и стекла, соединяющая главное здание с двухэтажным хозяйственным флигелем, стоящим далее вдоль улицы. Над запертой калиткой чугунная решетка. На ней герб баронов Геккернов: изящные, но довольно сердитые крылатые грифоны поддерживают лапами щит с изображением креста. Местами с ограды свисают тяжелые кисти глицинии, а впереди — на самом углу улицы — раскинулась во все небо крона многометрового каштана — еще одного
местного долгожителя. Ветви усеяны пышными свечами цветов так, что листья почти не видны. Волшебно, торжественно и немного грустно: вероятно, в предчувствии свидания с этим домом, который пока кажется неприступным.
Там, где возвышается каштан, улица Жореса упирается в перпендикулярную ей улицу Марны (rue de la Marne). По другую сторону шоссе, домов уже нет, и открывается вид на поля и склоны Вогезов. Широкий, ясный горизонт, мягкие волны укутанных лесом холмов, прозрачное, высокое небо. Через несколько десятков минут мы будем смотреть на эти горизонты из окон бывшей спальни и с балкона баронессы Катрин. Мы продолжали делать снимки, стараясь запечатлеть каждую деталь у входа в усадьбу, хотя в действительности неосознанно оттягивали волнительный момент встречи с обитателями особняка.
Предки д’Антеса появились в Эльзасе в конце XVII века. Один из основателей семейной династии — Филипп Мишель Антес, — как помним, был всего лишь сыном кожевенника Ханса из пфальцского города Вейнгейм (Weinheim), предки которого — шведские выходцы из Готланда. Предпринимательская жилка способствовала тому, что Филипп Мишель скоро разбогател на покупке кузниц, горнодобывающих шахт и сельскохозяйственных угодий. Ему принадлежали чугуноплавильные заводы в Обербрюке (Oberbruck), кузницы в Бельфоре и серебряные рудники в Жироманьи (Giromagny) — на месте древнеримских серебряных копей. Предпринимательское дело Филиппа Мишеля продолжил его сын Жан Анри (1670–1733) — прапрадед д’Антеса. В 1720 году он создал в Вегшайде (Wegscheid), неподалеку от Обербрюка, единственную во Франции королевскую мануфактуру по производству жести. Через десять лет он получил от Людовика XV патент на первую во французском королевстве мануфактуру холодного оружия в Клингентале (Manufacture d’armes blanches de Klingenthal).
То было время массового приобщения протестантского населения эльзасского края к католицизму — процесса, инициированного при Людовике XIV, который беспокоился о религиозном единстве страны, и продолженного его преемником. Крупный предприниматель Жан Анри, которого в Эльзасе считают теперь королем местной промышленности XVIII века, был вынужден оказаться от традиционного для его семьи кальвинизма. С тех пор его семейство исповедовало исключительно католицизм. История эта напомнила о том, как перешел в католичество барон Геккерн —протестант по рождению. Возможно, его решение также имело политические причины, о которых мы пока ничего не знаем. Понятно лишь, что протестантское прошлое обоих семейств по-своему роднило наших “героев” — старшего и младшего Геккернов.
После кончины Жана Анри заводами и фермами д’Антесов управляла его энергичная вдова Мари Катарина Ситтер — дочь крестьянина из эльзасской деревни Хеймсбренн (Heimsbrunn). Именно она (частично вместе со старшим сыном Жаном Филиппом) руководила кузнечным делом в Обербрюке, возглавила управление фермерским хозяйством герцога Арманда Шарля де Мазарини, приобрела баронство Лонжепьер (Longepierre), земли в Вильневе (Villeneuve) возле Женевского озера, а вместе с сыном — маркграфство и кузницы Вильконт (Villecomte) в Бургундии. Жан Филипп также приобрел сеньорства в землях Верхнего Рейна: Блоцхейм (Blotzheim), Бринкхейм (Brinckheim) и Набсхейм (Nambsheim). Он же до 1735 года руководил отцовским предприятием по производству холодного оружия.
В городском соборе Сульца сохранилась могильная плита из розового мрамора с именем Катарины Ситтер. На плите указаны приобретенные ею титулы и имя похороненного рядом с ней семнадцатилетнего сына Конрада Александра д’Антеса, умершего в 1726 году. Другой ее сын и неизменный помощник — Жан Филипп, родившийся в 1699 году, упокоился в том же соборе Св. Маврикия в 1760 году. Он оставил после себя шестерых детей, один из которых — Жорж Шарль Францис Ксавье (1739–1803) — стал впоследствии дедом Жоржа д’Антеса. Предприятия Жана Филиппа входили в крупнейшую компанию шахт и металлургических заводов долины Валь Сен-Амарин (Val de Saint-Amarin). Он имел дома в Мюлузе и в Сульце, на улице Сестер (15 la rue des Soeurs), за зданием мэрии.
Привилегия быть похороненным в стенах храма доставалась не каждому жителю города, но д’Антесы ее заслужили, хотя в их жилах текла скандинавская кровь. Будучи заводчиками-металлургами, финансистами и крупными землевладельцами, они обрели значительный вес в Эльзасе. Представители династии занимали видные посты в администрации городов, в которых жили. Прадед д’Антеса Жан Филипп был членом Суверенного совета Эльзаса — высшей судебной инстанции провинции, а один из его сыновей — старший двоюродный дед д’Антеса Франсуа Анри — стал президентом парламента Бургундии. Приверженность королевской власти способствовала экономическому и общественному процветанию рода. При Людовике XV Антесы возведены в дворянское достоинство и даже обрели свой герб в виде трех скрещенных шпаг (символ их успехов в производстве холодного оружия). При Наполеоне I они получили баронский титул.
Ко времени появления на свет Жоржа Шарля былое могущество внезапно взлетевшего рода угасло. Революция 1830 года серьезно пошатнула дела д’Антесов, которые неудачно избрали сторону Бурбонов, отказываясь признать новую власть короля-гражданина Луи Филиппа. Сегодня в Эльзасе нет никаких признаков их предпринимательской деятельности, хотя сохранились когда-то принадлежавшие им дома в Мюлузе, Кольмаре, Обербрюке, а также старые корпуса их мануфактур в долине Мазво (Masevaux). Так и в России — в Полотняном Заводе — мы не найдем действующих фабрик предков Гончаровых. Расцвет и упадок производств, основанных обоими семействами, пришелся почти на одно и то же время: конец XVIII — начало XIX века.
Многие подробности истории этого рода открылись нам только в Эльзасе, где с именем д’Антесов связывают начало индустриализации края. Спрашивается: зачем входить во все эти подробности? Разве они могут изменить отношение к тому, кто в 1837 году нанес нашей культуре непоправимый удар? Думаю, да. Только не изменить, а объяснить. В прошлом рода зачастую коренятся характеры, темпераменты и амбиции потомков. На фоне фантастического взлета предков становятся понятнее причины тех претензий, с которыми д’Антес явился в Россию. Ясно, о какой высокой карьере он мог мечтать, на какую блистательную партию рассчитывал и какое потрясение испытал, когда взамен всего этого был разжалован в солдаты и получил в жены дурнушку из незнатного разоренного рода. Становится понятней и позиция русских аристократов, которые не желали рассматривать наследника недавно возникшего баронского рода, скоро утратившего свои богатства и влияние, в качестве потенциального жениха для своих дочерей.
Нетрудно представить и то, как неловко и даже униженно чувствовала себя молодая баронесса Катрин, переступив порог эльзасского дома своего мужа, где со стен на нее смотрели именитые предки, а все вокруг только того и ждали, когда ее родственники из России начнут наконец исполнять свои финансовые обещания, а она произведет на свет наследника.
У ворот особняка д’Антесов на высоких флагштоках развеваются флаги Франции, Германии, Швейцарии и Евросоюза. Тут же огромный щит с названием трехзвездочного отеля “Шато д’Антес” (“Château d’Anthés”). За воротами пара легковых машин. В глубине двора внутренний фасад того самого флигеля XVIII века, в котором жили д’Антес и его супруга и который мы видели со стороны переулка. Над крышей флигеля, как и в те давние времена, устремлен к небесам тонкий шпиль местного собора, а во дворе современные цветочные клумбы, новехонькие дорожки, выложенные из камня. На лужайке характерная садовая скульптура наших дней — гипсовый ангелочек, манерно восседающий на такой же гипсовой раковине.
Двери застекленной одноэтажной галереи раскрыты, и прямо у входа гостей встречает… твердый пушкинский взгляд. Не сразу понимаешь, что лицо поэта изображено на афише любительского спектакля “Пушкин, или Пророчество о Белом человеке” (“Pouchkine ou la Prophétie de l’homme blanc”). Пьесу сочинил артист и драматург из Страсбурга Тьерри Винцнер (Thierry Wintzner). В центре афиши — белый всадник на белом коне. На заднем плане — русский пятиглавый храм, ближе к зрителю — сцена бала и фигура самодовольного джентльмена с заносчиво поднятой головой и с пистолетом в руке. Похоже, что это и есть д’Антес. Одним плечом он прикрывает даму… Наталья Николаевна? Да. Идея пьесы не нова: любили они, мол, друг друга, а Пушкину все одно угрожала смерть от “белокурого человека”. Вот и дождался…
Нам рассказали, что в финале спектакля на сцену поднимаются ныне здравствующий потомок д’Антеса, господин Лотер Геккерн, и актер, играющий Пушкина. Они с энтузиазмом пожимают друг другу руки, хотя в жизни господину Геккерну осуществить подобный фарс не удалось. Мечтая о примирении семей, он и вирши сочинил о невиновности своего предка, и в Россию ездил, надеясь на встречу с потомками Пушкина. Все тщетно.
На афише д’Антес сжимает в руке пистолет, Пушкин — гигантское перо. Случайно ли так вышло или перед нами тонкая трактовка исторической драмы — бог весть! Но выходит, что один герой оказался навеки связан с орудием убийства, другой — с вдохновением на кончике пера. В любом случае рекламу отелю, устроенному в бывшем родовом замке баронов, делает не его прежний хозяин, а тень убитого им поэта. История, которую д’Антес старательно пытался предать забвению, даже упрятав дочь в сумасшедший дом, стала идентификационным знаком этого места, его брендом, как принято теперь говорить. Портрет Пушкина красуется не в дальней комнате дочери барона, а у порога его бывшего особняка. В хорошую погоду на поляне перед домом актеры разыгрывают драму, в которой главными действующими лицами остаются поэт и его жена.
По воле нового владельца прежде табуированное здесь имя Пушкин присутствует во всех уголках особняка. Даже меню “а-ля карт” (на выбор) в гостиничном ресторане называется “Александр Пушкин” и стоит всего 48 евро. Банкетные меню чуть дороже: “Наталья Гончарова” — 56 евро, “Ван Геккерн” — 69. В отеле 38 номеров. Их названия также ориентированы на клиентов, понимающих толк в истории этого места. “Барон Геккерн” и “Наполеон III” — номера улучшенной планировки — “сьют”. Среди номеров “стандарт” имеется “Комната баронессы Гончаровой”. Подобное смешение — Гончарова и одновременно баронесса — могло произойти только в XXI веке, когда история нередко оказывается всего лишь неуклюжим украшением настоящего.
Последние владельцы были не в состоянии содержать свой родовой особняк и продали его местному предпринимателю господину Филиппу Шмерберу (Philippe Schmerber). Это он устроил здесь отель, который мы собирались осмотреть. Отель начинается в бывшей хозяйственной постройке, превращенной в холл. Высокие сводчатые потолки выдают строение XVII века. Когда-то здесь размещались амбары и погреба. Широкие двери в арочных проемах заменены на стеклянные. Через них просматривается двор, по которому мы только что прошли. Любезная девушка за стойкой администратора разыскивает по телефону хозяина отеля, а пока он спускается, готовит нам кофе и приглашает присесть в мягкие кресла, стоящие на турецком ковре.
По стенам рыцарские доспехи — своеобразное напоминание о предприятиях холодного оружия и доспехов, принадлежавших в XVIII веке владельцам особняка. Тут же современные картины с изображением пышных букетов. Цветочные композиции в напольных вазах. Идиллическая картина покоя и отдыха. Налет старины придает ей особый шарм. Без него гостиничный бизнес, особенно в провинции, не построишь. Господин Шмербер мечтает в будущем еще и баню устроить, да с настоящими русскими вениками, а гостей встречать по-русски: хлебом и солью… Вот еще как может аукнуться господину д’Антесу его русское прошлое!
За пару лет до нашей поездки в Сульц в петербургском Музее-квартире Пушкина на Мойке, 12, появились два иностранца вполне респектабельного вида. Оба высокого роста и необъятных размеров. Один — белокурый и розовощекий, с приветливой улыбкой, не сходящей с губ, — явно наслаждался новыми русскими впечатлениями. Другой — темноволосый, с короткой стрижкой, с чертами лица, напоминающими европейца-южанина. Первый из них оказался владельцем отеля “Шато д’Антес”, второй — господин Лотер Геккерн — праправнук д’Антеса.
В отличие от своего спутника, господин Лотер был заметно взволнован, поскольку полагал, что кровные узы с человеком, убившим хозяина этой квартиры, могут стать для него большой помехой при ее посещении. Но что могли мы ему сказать? Что перед смертью Пушкин просил не мстить за него? Что история не создана для сослагательного наклонения и ее нельзя исправить, даже если попытаться принести извинения за содеянное предком?
Поскольку мы не выказали намерения обсуждать с ним проблему виновности его предка, господин Лотер успокоился, приосанился, несмело заулыбался и попросил провести его по музею. Он не столько слушал рассказ о той истории, которую, как ему казалось, он сам хорошо знал, сколько внимательно всматривался во все бытовые детали. В комнате своей “тетушки Натали” (как сам он ее назвал) задержался, удивляясь простоте и изяществу ее личных вещей. Вспомнил о странной вещице с бантом, усыпанной бриллиантами, которую в семье считают русской брошью его прабабки. Судя по тому, как он ее описал, потомки хранят фрейлинский шифр Екатерины Гончаровой. Господин Лотер заверил нас, что ценный предмет хранится в одном из надежных французских банков, поскольку знакомый ювелир оценил его достаточно высоко.
Вполне довольный жизнью, этот человек своим характером и манерой держаться поразительно напоминал своего предка, хотя внешне был более похож на прабабку — баронессу Катрин. В семье Гончаровых считали, что у Екатерины был южный тип лица. Эта было заметно и в ее потомке, в особенности когда его загорелое, немного удлиненное лицо с крупными чертами и выразительными карими глазами склонилось над портретом баронессы, выполненным в Париже в 1838 году.
Присутствие прабабки придало правнуку больше уверенности. Он словно ощутил себя под ее защитой, осмелел, стал рассказывать о родительском доме в Сульце, высказывать собственное мнение о дуэльной истории, вспоминать о спектакле на лужайке перед домом. Оживился и его спутник. Оказалось, спектакль создан как раз его стараниями. Он же устроил в бывшем особняке подобие местного культурного центра, которому дал имя… Пушкина. В Россию господин Шмербер прибыл не только за впечатлениями, но и за новыми деловыми и культурными связями. Он показывал нам туристические проспекты, убеждая в необходимости посетить Эльзас и, разумеется, Сульц с его замечательным отелем.
Теперь он мог решить, что мы оказались в Сульце, откликнувшись на его призыв. Но останавливаться на ночь в “Шато д’Антес” мы не собирались. Не только потому, что в Страсбурге ждали незавершенные дела, но в первую очередь потому, что для нас провести ночь в таком месте — удовольствие весьма сомнительное. Разумеется, при создании отеля бывший особняк перекроили, как могли, но прошлое не могло покинуть его окончательно. Во все время, пока мы находились там, я чувствовала себя лишней, чужой, тревожащей чей-то покой. Даже мой фотоаппарат не выдержал этой напряженной атмосферы и отключился в тот момент, когда на балконе баронессы Катрин я пыталась сфотографировать решетку с гербом д’Антесов. Все, что мы видели после того — бывшую комнату старшего Геккерна, личные вещи семьи д’Антесов в местном музее, могилы на кладбище и церковь, куда баронесса Катрин ходила вымаливать сына у местной Мадонны, — все это, увы, осталось за кадром, хотя крепко засело в памяти.
Пока мы шли по коридорам и холлам отеля, его хозяин пересказывал нам историю семьи д’Антесов, обращая внимание на полотна современных художников, развешанные по стенам. Они иллюстрировали прошлую жизнь дома. Рядом с видами старого Эльзаса (пейзажи, уличные и жанровые сценки) копии портретов бывших хозяев. На одной из картин барон д’Антес-Геккерн пафосно обращается к своим согражданам, сидящим за праздничным столом. Вероятно, таким его увидел художник в роли мэра города. В другом зале — русские жанровые сценки и копии портретов Пушкина работы О. Кипренского и его жены — работы А. П. Брюллова. Зал называется “Пушкин”. Похоже, что в обычное время посетители отеля здесь завтракают и ужинают. Кстати в Интернете оставлены не лучшие отзывы о гастрономических изысках этого места.
На окнах полупрозрачные, но густые занавеси, отделяющие дом с его запутанным прошлым от дня сегодняшнего. Невозможно удержаться от желания выглянуть на улицу. Через дорогу за каменной оградой — огромная площадка с аккуратно расчищенными лентами старинных фундаментов. Господин Филипп ловит наш удивленный взгляд: “Это бывшие владения Мальтийского ордена. С начала XII века Сульц был одним из десяти важнейших командорств ордена, но Великая французская революция уничтожила их владения. Сохранились только жилая постройка в три этажа и примыкающая к ней бывшая Мальтийская капелла. Там теперь музей игрушек”.
Где-то я уже читала о том, что д’Антесы жили по соседству с мальтийцами. Но одно дело — читать, другое — видеть. Оказывается, не просто по-соседству: хозяин отеля умолчал о том, что сразу после революции 1799 года расторопные бароны приобрели этот участок в собственность. Выходит, детство д’Антеса прошло среди бывших владений старейшего из монашеско-рыцарских орденов. На этих руинах он мог играть, разыскивая среди камней и уцелевших строений обломки прошлого, мог слушать рассказы о памятных временах рыцарства и крестовых походов. Следовательно, ему были хорошо знакомы термины, которыми изобиловал анонимный пасквиль, очернивший имя Пушкина в ноябре 1836 года: “Кавалеры Большого креста, командоры и рыцари светлейшего Ордена... собравшись в Великий Капитул под председательством высокопочтенного Великого Магистра Ордена <…> избрали господина Пушкина коадъютором великого магистра Ордена и историографом Ордена…”
Отыскивая корни происхождения этого текста, исследователи обращаются то к символике архитектурного убранства Мальтийской капеллы в петербургском Пажеском корпусе, то к истории Кавалергардского полка, в котором служил д’Антес, вспоминая, что при Павле I полк представлял собой гвардию Великого магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского. Но может быть, не стоит заглядывать так далеко, если будущий кавалергард ощущал родственную связь с мальтийцами непосредственно в родительском доме?
Вот что значит вовремя посмотреть в окно, даже если оно предусмотрительно занавешено изнутри.
Мне всегда казалось, что вид из окна — самое важное в мемориальном месте. В музее или в любом старинном доме, сохранившем память о прошлом, мы всегда ждем неожиданных открытий. Но иногда достаточно взглянуть в обычный квадрат окна, чтобы пережить чувства, близкие тем, которые волновали или вдохновляли, успокаивали или разочаровывали обитателей этого места. Сколько бы лет ни прошло, а небо, солнце и даже сменяющие друг друга облака все те же… Они будто нарочно кем-то поставлены для того, чтобы вечно хранить атмосферу памятного места.
Ни с чем не сравнимое ощущение — смотреть в давно опустевший просторный двор господ Виардо из окна кабинета И. С. Тургенева в Буживале, сознавая, каково ему было жить на краю их счастливого семейного гнезда. Или, единожды увидев, трудно забыть о чарующем солнечном свете, который льется в окна дома семьи Санти в далеком итальянском городке Урбино. Этим волшебном светом пронизаны все полотна великого Рафаэля, рожденного в том доме.
Хозяин отеля приостанавливается в угловом зале нижнего этажа. В сумраке приходят на память многие важные эпизоды из жизни этого дома, первые стены которого были возведены в 1605 году, как говорят, на средства ордена Тамплиеров (храмовников). Первоначально дом принадлежал местному судебному приставу. Около 1707 года его приобрел Жан Анри Антес. При нем особняк был значительно реконструирован и превращен в поместье-замок. Во дворе появились конюшни, сараи и погреба. Все это досталось его сыну Жоржу Шарлю Франсуа Ксавье, которому в конце XVIII века удалось сбежать от революции. Свое имущество он оставил на попечение “тайных” друзей — рыцарей ордена Тамплиеров. Они сумели сделать так, что замок не достался новым владельцам: в нем была устроена тюрьма, и после смутных революционных лет его возвратили Жоржу Шарлю Франсуа.
Высоких друзей умел отыскивать и его тезка и внук — Жорж Шарль д’Антес-Геккерн. В 1832 году где-то в этих же стенах умерла его мать, так и не встретившись со своей будущей невесткой и не узнав о том, как скоро ее расчетливый сын откажется от родного отца, надеясь достигнуть большего благополучия в союзе с голландским посланником.
Господин Шмербер щелкает выключателем, и воображение теряет тонкую нить, связующую нас с прошлым. Тени исчезают. Перед нами современные кресла, аккуратно выставленные в девять рядов. Над ними видеопроектор. Владелец отеля радуется тому, что зал удается сдавать для заседаний, концертов, презентаций и даже для свадеб. По стенам — приторно-яркие копии портретов Наполеона III (верхом на коне; копия с портрета шведского художника Карла Фридриха Киорбое 1856 года) и императрицы Евгении, сидящей на лужайке в окружении своих фрейлин (копия с известной картины Франца Винтерхальтера 1855 года). Господин Филипп с гордостью, словно о собственной родственнице, сообщает, что одна из дам в окружении императрицы — старшая дочь д’Антеса и Екатерины — восемнадцатилетняя Матильда Евгения. Позднее она вышла замуж за бригадного генерала Жана Луи Метмана. Это ее сын — внук д’Антеса — оставил воспоминания о своих предках и сообщил и П. Е. Щеголеву, когда тот работал над книгой “Дуэль и смерть Пушкина”.
Здесь нам пришлось выслушать умильный рассказ о крепкой дружбе д’Антеса с Наполеоном III. Со временем барон заделался в парламентарии и слыл мощным оратором. Когда 28 февраля 1861 года он выступал в Сенате против объединения Италии, его речь поразила Проспера Мериме, и он так рассказывал об услышанном: “…на трибуну взошел г. Геккерн, тот самый, который убил Пушкина. Это человек атлетического сложения, с германским произношением, с видом суровым, но тонким, а в общем, субъект чрезвычайно хитрый. Я не знаю, приготовил ли он свою речь, но он ее превосходно произнес с тем сдержанным возмущением, которое производит впечатление. Смысл его речи в части, относящейся к Италии, заключается в том, что Франция и ее император были постоянно жертвами пьемонтских обманов. Кавур, Виктор Эммануил и Гарибальди — вот три головы под одним колпаком. Нет уверенности в том, что Мадзини не был агентом этого триумвирата, в котором у каждого была своя обязанность и своя роль. Гарибальди выкидывал свои безрассудства, Виктор-Эммануил принимал их для итальянцев, и Кавур их опровергал перед Европой. (Все едкие выражения против Кавура и Виктора Эммануила были хорошо приняты.) Он вскрыл противоречия в речах туринского кабинета до и после экспедиции Гарибальди, все высказанные и даже написанные обещания, которые не были выполнены. Он прочел выдержки из письма короля к Гарибальди, в котором говорится, что если Виктор Эммануил не послал ему пушек, то лишь потому, что он, Гарибальди, признал это излишним. Геккерн высказался еще резче по поводу завоевания Неаполя, когда пьемонтцы, по его выражению, чаще прикладывались к карманам, чем к оружию. Ему сильно аплодировали. Сильнее всего, когда он произносил похвалу Франциску II, который, по его словам, получив воспитание у плохого отца и плохого короля, у злой матери, окруженный вероломными советниками, среди военных трусов и предателей, нашел в самом себе благородные и великодушные побуждения. Он сказал, что Франциск вышел из Неаполя ребенком, а из Гаэты — королем, мужем и воином”.
Владелец отеля гордится тем, что Наполеон III неоднократно приезжал в Сульц и останавливался в особняке д’Антесов. Один из самых дорогих гостиничных номеров на втором этаже восстановлен в стиле Второй империи. Конечно, если император приезжал сюда, то занимал весь этаж. Но господин Шмербер не в состоянии превратить целый этаж в единственный vip-номер, поэтому история, как это часто бывает, существенно подкорректирована. Во дворе усадьбы мы видели каменную скамью, на которой, по преданию, сиживал император, и потому еще при жизни д’Антеса она была увенчана бюстом Наполеона III. Бюст был уничтожен во время последней оккупации, когда немцы использовали его в качестве мишени при учебной стрельбе. Не удивлюсь, если энергичный владелец отеля попытается восстановить этот “трогательный” знак прошлого. Ведь он может оказаться еще одним брендом его заведения!
Второй этаж флигеля, в котором когда-то жила баронесса Катрин, существенно перестроен: в бывшей анфиладе комнат поставлена перегородка, превратившая их в отдельные номера. Справа длиннющий гостиничный коридор, устланный красной дорожкой. В нем сохранились прежние окна, выходящие в сторону переулка д’Антесов. Слева по коридору двери номеров, окна которых обращены во двор. Номера убраны однообразно, с претензией на пышность. В центре каждой комнаты большая гостиничная кровать, поставленная изголовьем к стене. Над кроватями небольшой тканый полог, венчающий в одних комнатах натюрморт в старинной раме, в дру-
гих — зеркало. В так называемых комнатах Наполеона III имеются письменный стол, стильные кресла, мягкие ковры.
Здесь — на втором этаже флигеля — мы шли по паркетам, которые помнят звуки шагов их прежних хозяев. Господин Шмербер постарался сберечь каждый старинный замóк или крюк, оконные и дверные шпингалеты, принадлежавшие иным временам. В толще стен он расчистил потемневшие балки несущих конструкций, сохранил, где это возможно, старые потолки: в некоторых помещениях — кессонные, кое-где — плоские подшивные с потускневшей орнаментальной росписью.
Мы поднялись на этот этаж по внутренней лестнице из розового камня. Она довольно узкая с крутым уклоном в толще старой стены. Ширина марша позволяет разойтись двум взрослым людям, если они хорошенько прижмутся к кованой нитке перил. Должно быть, по ней было удобно подниматься, держа за руку малыша.
Лестница-то домашняя, семейная — немой свидетель взлетов и падений членов этого семейства в буквальном и переносном смысле этих слов. Вход на лестницу увенчан камнем с датой: 1605 — напоминание о давних и крепких корнях этого дома. Вероятно, по этой лестнице, сдерживая дыхание и унимая бьющееся от волнения сердце, входила к своей новой родне молодая баронесса Катрин. Спустя полвека, стирая легкие следы своего безмятежного детства, здесь шаркали старческие ноги ее недолговечного супруга.
Четырнадцать ступеней первого марша ведут на крохотную площадку. Здесь ренессансный потолок в форме сомкнутого свода. В стене — пустая полуциркульная ниша, увенчанная большой темной раковиной. Наверное, раковина — произведение одного из заводов д’Антесов.
Из окна на площадке второго этажа виден двор усадьбы, а за поворотом лестницы еще один банкетный зал — “Наталья” (“Natalia”). В углу мы увидели тот самый эркер, который привлек внимание со стороны улицы. Неслучайно снаружи он казался таким соблазнительным: по эту сторону разворачивались когда-то подлинно драматические события! Зал “Наталья” — бывшая столовая, где с весны 1837 года к столу собирались две семьи: д’Антесы (отец, его дочери и младший сын) и прибывшие из России Геккерны. Сейчас стены зала отделаны заново и гладко выкрашены в терракотовый цвет, но у одной из стен сохранился старинный камин из розового с прожилками мрамора. Кажется, что и сейчас в нем гудит дымоход и потрескивают дрова. Однако холод пробегает по спине, когда представляешь, как семья рассаживалась за столом, и молодая баронесса Катрин оказывалась рядом или между двумя (!) отцами своего супруга — родным и… законным. Вряд ли такая картина радовала воспитанную в строгой морали женщину. Но ради счастья быть рядом с любимым она готова была переступить через многое и терпеливо нести эту нелегкую ношу, подавляя гордость, а если надо, то и совесть.
Зимой 1837 года, когда сразу после свадьбы молодожены жили в одном доме с бароном Геккерном, их давняя приятельница Софья Карамзина удивлялась обманчивому счастью новой семьи: “Ничего не может быть красивее, удобнее и очаровательно изящнее их комнат, нельзя представить себе лиц безмятежнее и веселее, чем их лица у всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притворством: для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру им пришлось бы вести всю жизнь! Непонятно…” Но и в Сульце они вынуждены были продолжать ту же игру, причем на глазах у своих детей и близких.
Мы в спальне баронессы Катрин. Бывшей спальне. Против широкой балконной двери, сохранившейся с давних времен, стоит современная гостиничная кровать. Прежняя, ее здесь называют “русская кровать”, разлетелась вдребезги во время немецкой бомбардировки в 1940 году. Ее фрагмент — кусок навершия — хранится в витрине местного краеведческого музея. Считается, что именно в этой комнате баронесса зачинала и рожала мужу детей, а потом умерла от родовой горячки, произведя на свет долгожданного сына. “Ужасно подумать, что Кати больше нет на свете, — писала Н. Н. Пушкина, узнав о ее кончине. — Каковы должны были быть ее последние минуты — она оставляла четверых маленьких детей; мысль эта должна была быть ей очень горька — бедная, бедная сестра”.
Внук д’Антеса утверждал, что бабушка сознательно выбрала свою смерть. Выходит, что во время последних родов врач поставил ее перед выбором, предупредив, что рождение ребенка может стоить ей жизни. Катрин предпочла ребенка, твердо веруя, что он окажется мальчиком. Родив наследника, баронесса могла уходить из жизни своего супруга.
Из окон бывшей спальни Катрин открывается завораживающий вид на Вогезы: природа, дарующая душе покой и гармонию. Кажется, что мир создан для того, чтобы вдыхать с наслаждением этот бодрящий чистый воздух, любоваться безоблачным ясным небом. Но как успокоить сердце, если рядом нет близкой души, с которой можешь разделить свои счастливые чувства?
Катрин была несказанно обрадована, когда Геккерн-отец приобрел для них старый охотничий домик в долине Мазво, неподалеку от Мюлузы, и перестроил его, превратив в загородную виллу. Там, вдали от любопытных глаз, баронесса с детьми проводила все лето, а ее муж охотился осенью и зимой. В мае 1840 года, вскоре после рождения третьей дочери Леонии Шарлотты, Екатерина сообщала брату: “Через два дня я уезжаю в деревню и все же хочу написать тебе до отъезда, потому что как только я заберусь на вершину горы, в свой дворец-замок, известный под названием Шиммель, я не уверена, что мои многочисленные дела дадут мне возможность написать тебе сразу по приезде”.
Название места, в котором находился домик, Шиммель (le Schimmel), по-старонемецки означает “Белая лошадь”. Согласно легенде, в тех краях древние германцы ежегодно в день летнего солнцестояния приносили в жертву белую лошадь. Легенда напомнила об истории с известным предсказанием Пушкину, также связанным с какой-то “белой лошадью”. После кончины поэта современники на все лады пересказывали это предание. Так, приятель Пушкина Соболевский утверждал, что гадалка немка Кирхгоф якобы напророчила поэту долгую жизнь, если на 37-м году не случится с ним беды от загадочной “белой головы” (weisser Kopf), “белого человека” (weisser Mensch) или не менее загадочной “белой лошади” (weisser Ross), что более точно можно перевести: “сивый мерин”.
Надо думать, что со своими клиентами гадалка беседовала на смеси родного немецкого и русского языков, поэтому слушатели могли трактовать ее слова по-разному. Если она действительно упоминала о белом человеке и белой лошади, связывая их появление с предзнаменованием большого несчастья, то, скорее всего, речь шла о Шиммельрайтере (Schimmelreiter) — апокалипсическом белом всаднике на бледном коне. В древнегерманском фольклоре такой всадник был устойчивым воплощением большого несчастья. При неумелом — в виде кальки — переводе с немецкого фольклорный символ чужой культуры мог обрести черты конкретного белокурого человека или животного.
Могли ли д’Антес и его супруга задуматься над этим, когда отдыхали в своем Шиммеле, название которого напоминало о древних германских мифах? Да и знали ли они вообще о том предсказании Пушкину? Сегодня на эти вопросы ответить некому, как невозможно побывать на той вилле в долине Мазво, уничтоженной пожаром 1921 года.
Осмотрев дом и усадьбу, мы отправились на центральную площадь. Пешком до нее рукой подать, но господин Шмербер любезно предложил ехать в его машине, чтобы успеть побывать в местном музее, на кладбище и в церкви. Увидев здание ратуши, реконструированое в то время, когда д’Антес был мэром, мы вспомнили о вице-мэре Сульца докторе Веcте. Он был дружен с семьей д’Антесов, как свидетель подписывал документы о рождении их троих детей и, по всей видимости, неслучайно оказался помощником мэра. Хотелось понять, почему в 1870 году, при новой прусской власти, Вест покончил с собой. Господин Шмербер ничего не смог рассказать о той темной истории, утверждая, что ничего о ней не слышал. Заметил только, что в то же время в должности муниципального советника в мэрии служил и младший брат д’Антеса — Альфонс Лотер.
Следующий пункт нашего блиц-осмотра местных достопримечательностей — краеведческий музей, куда последние Геккерны передали ненужные им вещи, готовя к продаже родовой особняк. Музей размещен в бывшем замке-форте Бушенек (Buchenek). Он был возведен в XIII веке и в разное время принадлежал то страс-
бургскому епископату, то масонам, то городской администрации, а в XIX веке был приспособлен под заводское производство. Теперь здесь музей. Экспозиция нижнего — полуподвального — этажа посвящена пребыванию в Сульце командорства Мальтийского ордена. У нас не было возможности углубиться в детали этой истории: мы сразу поднялись на второй этаж, где представлены экспонаты семьи д’Антесов–Геккернов. Здесь я испытала примерно то же ощущение, которое позднее довелось вкусить в Кольмаре, когда оказалась на ветхой галерее, забитой старой рухлядью. В музейных витринах лежали вещи, какие обычно хранятся на чердаках и в подвалах старых особняков по принципу: выбросить жалко, но и воспользоваться невозможно.
Старые кресла и стулья, дорожный сундук в углу. На сундуке медная дощечка с надписью: “Барон де Геккерн”. У стены две печи, извлеченные из родового особняка, — изразцовая и чугунная. На дверцах герб баронов д’Антес — три скрещенные шпаги на щите, увенчанном баронским шлемом. Кстати, в музее Мюлузы хранится дверца от другой печи д’Антесов с датой 1731. На ней иной герб: в щите пониженное узкое стропило, сопровождаемое вверху по сторонам двумя шестиконечными звездами, в оконечности — плавающая в реке утка. Щит увенчан шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. По всей видимости, прабабка д’Антеса Катарина Ситтер приобрела этот герб вместе с баронством Лонжепьер (Longepierre). Он изображен и на ее портрете 1720-х годов. Забавно, но в настоящее время это герб семейства Порт де ла Фосс (Portes de La Fosse).
Наверху чугунной печи из-за ее толстой трубы анекдотично выглядывает небольшой медный самовар — напоминание о наличии в семье русской крови? На стене родословное древо и гербы д’Антесов и Гацфельдтов (линия матери Жоржа Шарля), портреты членов семьи и самого д’Антеса — уже стареющего — с пышной седой шевелюрой, зачесанной наверх, как в далекой юности, все с тем же прямым и холодным взглядом.
В горизонтальной витрине представлены всякие мелочи. Когда-то они составляли часть жизни этого семейства: чернильница Жоржа д’Антеса, его печатки и их оттиски на сургуче, деловые бумаги, конверты писем, фаянсовые тарелки (одно время предки д’Антеса занимались и производством керамики). На раскрытой странице книги — очки д’Антеса. Устроителям выставки хотелось, чтобы мы застали барона непременно читающим. А книга не простая — пушкинская “Гаврилиада” на французском языке. Кому-то, верно, кажется, что поведение д’Антеса относительно Пушкина легче оправдать, если учесть, что поэт был автором этой богохульной поэмы. Не случайно рядом с книгой лежат дуэльные пистолеты (типологические — не те, из которых был сделан роковой выстрел), а сбоку у стены стоит плоская, будто из картона, фигура чугунного человека. Это силуэт, высотой со средний человеческий рост, с лицом, не наделенным конкретными чертами, абсолютно черный (по цвету, не по расе). В зубах белая трубка, на груди — мишень с несколькими пулевыми отверстиями. Мишень явно поздняя — второй половины XIX века, но она из дома д’Антеса, и на фоне рассказа о пушкинской истории смотрится зловеще.
Судя по тому, как расставлены акценты в музейной экспозиции, самым значительным событием в истории рода д’Антесов остается роковой поединок на Черной речке. Содеянное там не способны затмить ни благотворительность д’Антеса в родном Сульце, ни его политическая деятельность, ни выдающиеся успехи его предков на ниве развития местной промышленности. Как справедливо заметил в свое время французский романист Поль Эрвье, если д’Антес принес смерть Пушкину, то Пушкин дал ему бессмертие, как Эфесский храм Артемиды тому, кто его разрушил. Доминантой зала, посвященного д’Антесам, являются экспонаты на ширме-выгородке, обитой дешевым ситцем. Это копии портретов Пушкина и его жены. Перед ширмой ампирный диванчик с перекинутой через спинку дамской шалью, тростью и цилиндром. Все для оживления впечатления посетителей…
Тут же к стене приставленная могильная плита с именем баронессы Катрин Геккерн. На ней лаконичная надпись: родилась в Москве, умерла в Сульце 20 октября 1843 года в возрасте 32 лет. Недавно плиту заменили на новую — с указанием даты рождения и уточненным возрастом на момент кончины: 34 года. Сегодня эти даты интересны тем, кому важно соблюсти принцип историзма. Д’Антесу, когда он хоронил жену, эти подробности, видимо, были ни к чему.
На стене почти рядом с могильной плитой помещен огромный портрет баронессы Катрин. Его размеры 166 на 107 сантиметров, практически в полный рост. Сколько раз в изданиях о Сульце мы видели репродукцию с этого изображения! И вот — нежданная встреча. Когда-то портрет украшал один из залов родового особняка. Нынешние потомки в нем не нуждаются.
С портрета смотрит не на зрителя, а чуть в сторону высокая темноволосая дама с крупными карими глазами. На ней белоснежное платье и накидка, подбитая горностаем. Одной рукой она удерживает эту накидку, сползающую с бедер, в другой держит лорнет на изящной цепочке. Лорнет — не только дорогая аристократическая безделушка, но предмет, без которого близорукая Катрин Гончарова не могла и шагу ступить, — дополнительное напоминание о том, сколь искаженной представлялась ей окружающая ее действительность. Говорят, что этот парадный портрет был выполнен с натуры местным художником Анри Бельцем в 1840 году.
Обручальное кольцо на правой руке отсутствует. Выходит, что еще до перехода в католичество (если портрет действительно написан в 1840 году, как считают в музее) баронесса носила кольцо на левой руке (пальцы этой руки не видны, так как в согнутой ладони лежит лорнет). Не исключено, что так она чувствовала себя более комфортно в католической семье своего мужа и в городе, где все носили обручальные кольца на левой руке. Однако едва возникнув, наша гипотеза разрушается при виде другого экспоната: в витрине лежит гипсовый слепок с правой руки баронессы, сделанный после ее кончины. Обручальное кольцо надето по православному обряду.
Нельзя исключить, что парадный портрет мог быть исполнен не в 1840 году, а после кончины Катрин. За его основу могло быть взято неизвестное нам прижизненное изображение. К примеру, миниатюрист Жан Батист Сабатье в 1838 году рисовал баронессу в Париже. Эту миниатюру она отправила в подарок родным, но могла оставаться копия с него или другой вариант, исполненный тем же художником. С нее и могли сделать парадный портрет, намеренно “забыв” о кольце на правой руке, тем самым сделав из нее праведную католичку.
Прическа на парижском и парадном портретах одна и та же: волосы гладко зачесаны на прямой пробор, низко закрученные букли полностью закрывают уши. На обоих портретах через букли продеты золотые сережки-пуговки. Разумеется, баронесса была вольна в выборе своего стиля и могла носить одну и ту же прическу в течение нескольких лет. Но все же перед тем как позировать художнику, прическу обычно меняли или чем-то дополняли. Таким “дополненным” выглядит белое шелковое платье баронессы с удлиненным мыском на талии. Его фасон одинаков на обоих портретах. Только в первом случае поверх платья лежит кружевная накидка с пышными прозрачными рукавами, во втором накидка подбита горностаем (скорее всего, эта деталь туалета была частью инвентаря художника).
В левом верхнем углу на портрете кисти Бельца изображен герб. В генеральном инвентаре культурного наследия Эльзаса (его можно найти в Интернете) отмечено, что это фамильный герб д’Антесов. На самом деле — герб Гончаровых: в красном щите серебряная шпага с золотой рукояткой, стоящая вертикально острием вниз, а в голубой главе щита — серебряная шестиконечная звезда. Скорее всего, портрет молодой баронессы мог предназначаться для одного из залов родового особняка, где были представлены портреты предков. Наличие на нем герба должно было подчеркнуть знатность происхождения. Говорят, что у последних владельцев особняка оставалось около 24 таких родовых портретов. Среди них и знаменитый глава рода — Жан Анри. Его портрет, датированый 1720-ми годами, можно увидеть в каталоге недавней выставки, посвященной истории рода. На портрете, также в левом верхнем углу, изображен герб д’Антесов, а на парном к нему портрете его супруги Катарины Ситтер — герб с плавающей уточкой, тот самый, что и на чугунной дверце из Мюлузы.
На наш взгляд, самый выразительный экспонат в музее замка Бушенек — православное распятие. Сотрудница музея объяснила, что баронесса Катрин привезла его с собой из России. Из аннотации следует, что это благословенный православный крест XVII века, медный с эмалевыми украшениями, высотой около сорока сантиметров. Удлиненная нижняя часть наводит на мысль, что крест мог быть снят с киота. На его лицевой стороне отчетливо видны Утешитель (Св. Дух), ангелы, Распятие и череп Адама; в четырех медальонах надписи: IC XR (Иисус Христос) и Victoire (Победа). С обратной стороны, как сказано в аннотации, икона св. Николая в пересечении орнаментов. Св. Николай — небесный покровитель отца баронессы — Николая Афанасьевича Гончарова. Не от него ли попал он к ней? Держала ли она его в руках перед своей кончиной? Снова вопросы, вопросы, вопросы...
Господин Шмербер вынужден напомнить нам, что пора ехать на старое городское кладбище. Оно заложено в 1819 году и теперь находится в черте разросшегося города, хотя у самой его окраины, на улице Редерсхейм (rue de Raedersheim), № 2. В плане кладбище имеет форму сильно вытянутого прямоугольника и кажется стиснутым между двумя параллельными улицами: Редерсхейм и Больвийе (rue de Bollwiller). Эта его ширина настолько мала, что окна жилых домов, стоящих на Больвийе, мирно посматривают на могилы усопших, будто в собственный огород. Зато в длину, вдоль улицы, кладбищенская ограда вытянута на несколько десятков метров. В самой ее середине находятся высокие кованые ворота, возведенные в 1854 году. Через них мы вошли на широкую аллею, по обе стороны которой размещены старые захоронения. Где-то здесь находятся могилы местных рыцарей-мальтийцев, но у нас не было времени их разыскивать. Среди известных захоронений усыпальница баронов Френдштейн (Freundstein). Самое знаменитое имя, высеченное на их каменной стеле, — имя баронессы Генриетты Луизы, урожденной Оберкирх (Henriette Louise de Waldner de Freundstein) — знаменитой мемуаристки, подруги детства нашей императрицы Марии Федоровны.
На кладбище, как это часто бывает у католиков, практически нет ни кустов, ни деревьев, лишь тесно жмущиеся друг к другу мраморные плиты со светлыми мраморными крестами. У подножий крестов живые и искусственные цветы — знак присутствия в городе близких, которые чтут и помнят.
Короткая аллея, ведущая от ворот, упирается в металлическую ограду. За ней небольшой отгороженный участок у самой противоположной стены. В центре участка — типичный кладбищенский постамент с урной под готической сенью. На постаменте высечено два герба: д’Антесов и Геккернов. Внутри ограды девятнадцать могил. По непонятной причине плиты размещены здесь перпендикулярно по отношению к большинству других захоронений. Возможно, что, в отличие от православных, католики не придают большого значения тому, на запад, восток или же на север ориентирована могила с усопшим.
На плитах в этой ограде нет цветов, даже засохших. Создается впечатление, что покойные отделены своей оградой не только от мертвых, но и от живых. Присматриваемся к именам. Помним, что глава рода — Жан Анри д’Антес — покоится в Обербрюке, его жена Катарина — в приходской церкви Сульца, и все равно кажется, что здесь, на кладбище, все семейство в сборе: дедушки, бабушки, дети и внуки, кузены и кузины… Мраморная плита с именем баронессы Екатерины крайняя слева — во втором ряду у самой ограды, отгораживающей участок от общего кладбища. Над плитой невысокий католический крест — такой же, как и на других могилах.
“Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию”, — рассказывал барон Геккерн о смерти Катрин в письме к ее брату. Выходит, что баронесса умерла православной. Хотя не исключено, что она успела перейти в католичество, а Геккерн, извещая родственников о ее кончине, просто не стал раздражать их подобным сообщением. Ему ведь предстояло убедить Гончаровых еще и в том, что муж Катрин сражен постигшим его несчастьем и его непременно следует поддержать присылкой денег, которых он давно ждет из России.
Судьба даровала баронессе всего шесть лет брака, четверых живых детей и одного мертвого — почти зеркальное повторение того, как сложилась в браке жизнь ее младшей сестры до трагического поединка на Черной речке. Случайное совпадение или роковая предопределенность — безжалостная расплата за равнодушие к людям, которые привезли ее в Петербург и приютили в своем доме, за страстное желание обладать тем, что ей по праву не принадлежало, наконец, просто за неумение быть женщиной — независимой и гордой? Но, если бы в ноябре 1836 года, когда Геккернам пришло в голову защититься от Пушкина расчетливым браком, Екатерина отказала бы д’Антесу, история могла сложиться совершенно иначе. Как знать?
Добившись того, о чем мечтала, выйдя замуж и рожая детей, она так и не получила возможности создать собственную, родную, семью. Ее муж довольствовался тем, что кров и стол предоставлял ему его собственный отец, а деньги, как и в Петербурге, — барон Геккерн.
Д’Антес был весьма заурядной личностью, но Екатерина была бесконечно признательна ему за то, что он обратил на нее внимание, разрушил стены ее одиночества. В благодарность за это она всеми силами старалась уверовать в то, что рождена для предмета своей любви. Его снисходительное отношение к ней должно было оскорблять или, во всяком случае, — огорчать ее. Но еще большие страдания приносило необычное родство ее мужа со “стариком Геккерном”, которого мать Екатерины — Наталья Ивановна Гончарова — называла в своих письмах исключительно дядюшкой Жоржа. Геккерн взял на себя все содержание молодых и даже выдавал “сыну” деньги в счет тех средств, которые, как он надеялся, должны прийти из Полотняного Завода. Катрин оказывалась должной даже не мужу и его родне, а старому барону — тому, кто делил с ней ложе ее супруга! Именно с Геккерном Екатерине суждено было вести битву за Жоржа, и эту битву она проиграла. Об этом красноречиво свидетельствует надпись на плите соседней с ней могилы. Там покоится не муж, что было бы правильно и вполне логично, а его “приемный отец” Геккерн.
После смерти бывший голландский посланник и его “невестка” оказались друг к другу ближе, чем это было при их жизни. Д’Антес положил их рядом, будто сам собирался жить вечно. И все же в самом конце позапрошлого века он оставил этот мир, пережив двух своих дочерей: старшую — супругу генерала Луи Метмана и младшую, Леонию Шарлотту, которую в свое время оправил в дом умалишенных. Могила несчастной девушки — в следующем ряду, чуть левее изголовья могилы матери. Рядом с ней — прямо над изголовьем баронессы Катрин — плита с надписью: “Барон Жорж Шарль де Геккерн-д’Антес, родился 5 февраля 1812 года в Кольмаре, умер в Сульце 2 ноября 1895 года”.
Смерть — примиритель. Или судия? Дата смерти барона пришлась на тот день (по новому стилю), когда в ноябре 1836 года произошло загадочное событие, ставшее толчком к долгой дуэльной истории поэта и его убийцы. Одним из звеньев цепи тех событий стала женитьба д’Антеса на Екатерине Гончаровой.
Господин Филипп зовет к машине, снова возвращая нас в день сегодняшний. Нам пора в Тиренбах.
— Где это?
— Совсем недалеко: в шести километрах от Сульца. Но вам нужно успеть на автобус и поезд в Мюлузу…
Не совсем понимая, куда везет нас провожатый, садимся в машину. Снова край города, впереди манящие Вогезы, живописная дорога, бегущая через лес. На открытых полянах шесты с огромными пышными гнездами. Аисты стали своеобразным символом Эльзаса в самом конце XIX века, когда их ввел в свои красочные картинки о жизни любимого края художник из Кольмара Жан Жак Вальц (Jean-Jacques Waltz). Уезжая из Страсбурга в Россию, я не удержалась и в одном из сувенирных киосков у подножия великого страсбургского собора купила пушистого белого аистенка со смешным красным клювом и такими же лапками. Уж он-то никак не виновен в том, что содеял на нашей земле его давний соотечественник.
Из семейных рассказов Гончаровых известно, что Екатерина ходила в местную церковь просить Мадонну даровать ей сына. Но только здесь мы узнали, что церковь цела и находится в бывшем бенедиктинском монастыре Тиренбах или Тиеренбах (Thierenbach). Базилика носит имя Нотр-Дам де Тиренбах (Notre-Dame-de-Thierenbach) или Св. Марии Помощницы (Sainte-Marie-Auxiliatrice). Через Тиренбах проходит французская часть великого паломнического пути к могиле св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела, и базилика Нотр-Дам является одной из чтимых святынь на этом пути.
В 30-х годах XX века храм был существенно подновлен, поскольку пострадал во время пожара все в том же достопамятном 1884 году — в год смерти старого Геккерна. И все же базилика сохраняет удивительную ауру старого намоленного места. С середины XVIII века она имеет архитектурный облик австрийского барокко, что во многом роднит ее с византийскими церквами. Думаю, что баронессе Катрин — Екатерине Гончаровой — было уютно в таком храме, тем более что здесь мы отыскали старинную деревянную статую ее небесной покровительницы — св. Екатерины. Возможно, поначалу именно к ней она обращала свои молитвы о желанном сыне, но затем решилась обратиться к Мадонне, вдохновленная примерами, отраженными в обетных, так называемых вотивных (ex-voto) картинках, которыми ныне снизу доверху увешаны все свободные стены собора.
Говорят, что их здесь около 850 — небольших рисунков и огромных картин, свадебных венков и металлических вотивных сердец. Самые ранние изображения относятся к XVII веку. Как зачарованные, бродили мы внутри храма, сознавая, как раскрываются перед нами врата в мир молитв и чаяний прихожан этой церкви и баронессы Катрин. Погружаясь в пространство этих наивных изображений, кажется, слышишь теплые и трогательные слова благодарности небесной покровительнице за ее помощь в самых разных делах: в сборе урожая, строительстве дома, налаживании отношений с близкими, возвращении мужей с полей сражений, рождении детей, превозможении болезней и исцелении от увечий. Хочется понять, что же лежало на сердце Екатерины, когда она обращалась с молитвой к здешней Мадонне, о чем думала она, когда босыми ногами многократно измеряла путь к этому храму?
Оказавшись вне родины, во французской деревне, вчерашняя русская барышня не имела возможности исправлять близкие сердцу православные обряды. В мае 1838 года, когда они с мужем приехали в Париж, Катрин рассказывала, что говела и причащалась едва ли ни с первого дня приезда, что по воскресеньям не пропустила ни одной службы в посольской церкви, а вернувшись в Сульц, стала думать о возможности перехода в католичество.
Еще в Петербурге, перед самой свадьбой, под давлением жениха она подала на высочайшее имя прошение о дозволении крестить будущих детей по католическому обряду. Хотя в России детей от смешанных браков крестили обычно в православии, Николай I даровал ей свое согласие. Во Франции, когда одна за другой стали появляться на свет ее дочери, все они становились католичками. Разность вероисповеданий стала отделять их от матери как незримая, но прочная стена. Сознавая это, Катрин могла полагать, что религиозное воссоединение с родней мужа облегчит появление на свет желанного наследника. Рождение в марте 1842 года мертвого младенца, должно быть, укрепило ее в решении обратиться за милостью к св. Марии Помощнице.
Кажется, что именно здесь, в Тиренбахе, куда баронесса Катрин ежедневно ходила пешком, будучи на последнем сроке беременности, приоткрылась перед нами одна из самых трагичных страниц ее истории — той истории, ради которой мы приехали в Сульц. Любовью к мужу и детям она старалась спасти семейное счастье, заглушить голос совести. Готовясь принять католичество после рождения сына, она не могла не сознавать, что бесповоротно переходит на сторону семьи, в которой царят ложь и лицемерие. Добровольный отказ от веры отцов разрывал ту единственную нить, которая связывала ее с родной семьей. Но все мечты и устремления этой женщины, вся ее жизнь принадлежали исключительно тому, кто давно разрушил ее связи с родным домом, нанеся ему непоправимый удар выстрелом на Черной речке. Переступив через это событие, простив любимого Жоржа, баронесса д’Антес-Геккерн полагала, что избавилась от прошлого, но оно не позволило ей счастливо забыться даже вдали от места преступления супруга.
Можем ли мы осуждать ее за это? Вряд ли: такое право нам не дано. Да и свой долгий путь в Эльзас мы проделали не ради оценок и тем более не во имя мщения, а надеясь разгадать что-то давно ускользнувшее от нас, непостижимое… Войдя в тиренбахский храм, мы осматривали каждый его уголок, помня о грехе и милосердии, покаянии и надежде на спасение. В эти минуты мы пережили удивительное состояние облегчения: будто исполнили долг, завещанный в далеком 1837 году, когда Пушкин сказал о своем убийце: “Я все простил…”
Пока мы находились в храме, тучи совершенно покинули долину. Теперь она была празднично озарена майским солнцем, открывающим пестрые эльзасские дали и отгоняющим клочья тумана и длинные тени к далекому сумрачному горизонту. Мир был заполнен чарующими ароматами весны, радостным птичьим гомоном, поверх которого плыли мягкие удары колокола, напоминающие о приближении вечерней мессы. Окунувшись во все эти привычные земные звуки, мы будто пересекли невидимую черту, отделяющую нас от прошлого и возвращающую в настоящее, но в памяти пронзительной нотой звучали слова из письма Александры Гончаровой 1843 года: “Нашей бедной Кати нет больше на свете, помолимся за нее...”.